Настя КРАСНИЦКАЯ. Воздух времени. Девлизеровский овраг
В последнее время стало модно искать «места силы». Кто-то идет в горы, кто-то ищет острова, а мое заветное место – овраг, вдоль которого растянулась бабушкина деревня.
У нас в Чувашии земля повсеместно изрезана оврагами. Во времена социализма с ними боролись – обсаживали деревьями, всячески укрепляли, чтобы они не расширялись и не уменьшали площадь пахотных земель. Сейчас это все забыто. На ровном-то месте ничего не сеют и не сажают, поля зарастают бурьяном и кустарниками, где уж там с оврагами воевать.
Когда спускаешься в такой овраг, глубиной с десятиэтажный дом, то оказываешься как бы ниже уровня земли.
И с тобою что-то происходит.
Ты растворяешься в этой вековой тишине, траве, которая вцепилась в каменистую почву оврага, огромной иве, склонившейся к маленькому ручейку на его дне. Она так похожа на иву, за которую цеплялась Офелия. Бедная маленькая девочка, которая так хотела стать королевой…
Сверху овраг прикрывают белые облака летнего неба. Такие невозможно, недостижимо белые облака, в которых есть что-то сказочное. Они как будто из детского мультика, и кажется, что подпрыгнув повыше можно примоститься на мягкую, ослепительно чистую подушку вон того облака и прокатиться на нем. И сидя на этом облаке найти ответы на все свои вопросы.
Но ты знаешь, что это невозможно.
В этом треугольнике пространства, очерченном склонами оврага и белыми облаками, свой мир. Молчаливый, неторопливый, не знающий наших имен и лиц. И когда ты маленькой временной букашкой сидишь на его твердом столетнем склоне, все внутри тебя стихает. Как будто ты уже умер и стал этой травой, бугристой землей, ветками ивы, тихим ручейком, журчащим где-то там, на самом дне оврага.
Абсолютное отсутствие чувств, желаний… Нет ни надежды, ни обиды. Ты часть этого мира… И скоро ты перестанешь это понимать, ощущать, распадешься на безликие молекулы, которые подчиняются только законам физики.
И знаете, что я вам скажу…
Время – это не река, которая течет из прошлого в будущее, а мы как бы сидим на его бережку. Время – это воздух, который окружает нас со всех сторон.
Что происходит со мной в этом овраге?
Или это место только кажется особенным, потому что овраг возле бабушкиной деревни наполнен моими детскими воспоминаниями? Маленькой девочкой я ходила сюда за водой, которую черпала прямо из ручья возле ивы, где было поглубже. А вон там, чуть подальше, играла в свои детские игры.
Я помню эту траву, этот ручеек, неглубокий и прозрачный. На дне блестят разноцветные камушки. И можно долго сидеть на его бережку, на зеленой сочной траве, наблюдая за игрой световых бликов журчащих перекатов, мошек, прыгающих по его поверхности, головастиков, снующих в воде по своим делам. После сильного дождя русло всегда немного меняется, и ручей становится другим, оставаясь прежним.
Моя дорога в эту деревню тоже все время меняется. Школьницей я ездила туда с родителями на казанском поезде до станции Алешево, и оттуда шли пешком шесть километров по дороге, протоптанной среди полей.
Я не помню, чтобы уставала. Мне нравилась дорога через колхозные поля, которые каждый год засевали разными культурами – рожь чередовалась люцерной, горохом или овсом. Папа объяснил, что это называется севооборот.
Я шла рядом с родителями, слушала их разговоры, летом посередине пути мы присаживались отдохнуть. Там был небольшой овражек, поросший деревьями, где можно было посидеть в тенечке.
Цветы я никогда не рвала. Мои родители были люди деревенские, практичные. В Канаше, в палисаднике перед домом, мама всегда сажала цветы. У нее вообще, что называется, легкая рука на цветы, и в нашей чебоксарский квартире они у нее растут сами собой. И весной у нас дома всегда стоят букеты дачных цветов. Но собирать полевые цветы, нести их в бабушкин дом, искать там для них какую-нибудь бутылочку, а потом выбрасывать… Такое у нас не практиковалось.
Цветы в вазе в деревенском доме – это вообще нонсенс, баловство.
Зимой это было огромное снежное поле. Вдоль дороги, протоптанной в снегу, всегда стояли еловые ветки. Я думала, их ставят в честь Нового года. Елки заносят в дом, а ветки ставят в поле, чтобы там тоже было красиво. Но однажды папа объяснил, что их ставят, чтобы не сбиться с дороги. Я удивилась. Был тихий зимний день, мы шли по хорошо утоптанной дороге, и я не понимала, как с нее можно сбиться.
Потом, уже когда выросла, рассказывали, что молодая девушка заблудилась здесь в метель и замерзла. Была суббота, и она после занятий торопилась в деревню в клуб, где хотела встретиться со своим парнем. Уже пошел снег, и подруги уговаривали ее остаться. Но ей так хотелось увидеться с любимым, что она решилась поехать, надеясь, что успеет домой до темноты.
В пасмурный день темнеет раньше обычного. Когда она сошла с поезда в Алешево, уже начиналась метель. Говорят, женщина, работающая на этой станции, увидев ее одинокую фигурку, уговаривала остаться и переночевать у нее в доме. Но девушка отказалась.
Снег падал все гуще, метель выла все злее.
Так она и заблудилась, сбившись с дороги.
На другой день метель стихла, подруги приехали в деревню, а ее нет. Встревоженные и сразу все понявшие родители отправились на поиски. Да где там кого найдешь в этом снежном поле... Девушку нашли только весной, когда сошел снег, совсем в стороне от дороги.
Мы однажды тоже заблудились. Осенью, когда поехали к бабушке копать картошку. У нас собралась большая компания, впереди шли я и мой двоюродный брат. И мы, заговорившись, пропустили поворот! Надеялись, что сзади идут люди, которые знают дорогу лучше нас и, если что, окликнут и направят в нужную сторону. А они шли за нами, думая, что мы знаем, куда идем. Хорошо, что с нами была бабушка! А то бы нам точно пришлось ночевать в этом поле. Уже начало темнеть, но она все-таки сумела сориентироваться по каким-то деревьям и вывела нас к деревне. Самое интересное, что нас почти не ругали, только тетя Маруся спросила: «Зачем пошли впереди, если не знаете дорогу?».
Вот такой была моя дорога в бабушкину деревню в далеком детстве.
Когда исполнилось лет десять-одиннадцать, во время летних каникул меня оставили пожить у бабушки, и этот овраг стал моей единственной отрадой, где я играла целыми днями. С деревенскими детьми я так и не подружилась. Не знаю, как сейчас, а тогда в чувашских деревнях считалось верхом неприличия, если летом подростки болтались на улице без дела. Весь день они работали наравне со взрослыми: пололи, косили, пасли. На улицу выходили только вечером, да и то не каждый день. И было им как-то не до игр, которые любили мы, городские бездельники.
Может быть, моя бабушка тоже привлекала бы меня к деревенским заботам, но она не знала русского языка, а я не умела говорить по-чувашски. Родители мои, выросшие в деревне, в свое время с трудом освоили русский язык, и я, школьница, часто поправляла их, когда они путали падежи или род. Между собой они иногда разговаривали на родном языке, но с нами, детьми, только на русском.
Поэтому мы с бабушкой общались в основном взглядами и жестами. Да и огород у нее был маленький, я прополола его за два дня, а траву она косила сама. Мама привезла меня в деревню, а перед тем как уехать в город научила пользоваться коромыслом. Нашла два ведерка поменьше, сводила один раз к колодцу, потом показала большой эмалированный бак, который стоял в сенях на скамейке, и сказала, что он всегда должен быть полным. Вот эти путешествия за водой и стали моим главным развлечением.
Деревню Верхнее Девлизерово потому и назвали верхней, что она расположена на верхней стороне длинного и очень глубокого оврага. Позднее на противоположной его стороне, более пологой и низкой, выросло Нижнее Девлизерово. Интересно, почему люди вначале обосновались на той стороне оврага, где жить было труднее? В бабушкиной деревне не было ни одного колодца, потому что до воды дорыться было невозможно, она была очень глубоко. За питьевой водой ходили в овраг, где вырыли общий колодец. Он был неглубокий, воду доставали шестом, сделанным из толстого длинного сучка, конец которого был загнут удобным крюком. Этот колодезный шест был, конечно же, ошкурен, аккуратно обработан. Около колодца на низенькой скамеечке стояло общее деревенское ведро. Зачерпывать воду своим ведром не разрешалось, вся деревня строго соблюдала это правило, чтобы пресечь возможное распространение заразы, если кто-нибудь заболеет. На дне оврага протекал маленький неглубокий ручеек, который начинался из родника, пробившегося из этой глины наружу чуть выше колодца. И на этом отрезке ручья, между родником и колодцем, никогда не пасли скот, чтобы не загрязнять воду. Место, где начинался родник, тоже было расчищено, и там был сделан небольшой навес над родником, такой маленький домик. Но туда трудно было подойти, поэтому и вырыли колодец там, куда можно было спуститься по извилистой тропинке, которую протоптали по склону оврага зигзагом. По этой тропинке и налегке подниматься – запыхаешься, а с ведрами на коромысле – это такая тренировочка, лучше всяких фитнес-клубов. После дождя, когда она становилась скользкой, поход за водой превращался в довольно опасный экстрим. Потому что склон крутой, а тропинка узкая, и если, не дай бог, поскользнешься, то катиться будешь долго, наперегонки с ведрами и коромыслом. Но я никогда не слышала, чтобы там кто-то падал. Потому что эта тропинка тоже была сделана с умом. И я сама однажды видела, как мужчина средних лет утаптывал ее, поправляя после дождя.
Раньше и бани в этой деревне были расположены в овраге, поближе к ручью, их было не очень много. Не на каждую семью, а на группу семей, объединенных кровным родством.
Бабушкин дом стоял на краю деревни и за водой для хозяйственных нужд, для поливки или чтобы помыть пол, я ходила не к колодцу, а спускалась к ручью в другом месте. Там овраг был не такой глубокий, около ивы русло немного углублялось, и можно было, встав на коленки, зачерпнуть воду ведром. Про Офелию я тогда еще не знала, но когда потом читала Шекспира, всегда представляла именно эту иву. Хотя в нашем ручейке утонуть невозможно, такой он мелкий. В этом месте, расположенном далеко от колодца, тогда редко кто ходил. И оно стало моей детской площадкой, где я проводила почти весь день.
В деревенском доме не было ни книг, ни даже газет. Бабушка так и не освоила грамоту, не умела ни читать, ни писать. Но была в ней какая-то терпеливая и простая мудрость, безъязыкая и бессловесная. Мудрость поколения, родившегося на сломе эпох, пережившего унижения сталинских репрессий, бедствия страшной, безжалостной войны. И нечеловеческими усилиями, на пределе сил, растившими детей. Было у нее в жизни две большие радости – это когда в деревне в конце 60-х годов появился свет, и когда начали давать пенсию. Сорок рублей.
Сейчас это поколение, обеспечившее богатство и славу бывшего СССР, покоится на погостах России. А мы каждый год, на Троицу, приезжаем обиходить их могилы.
Года два назад, в один из таких приездов, я спустилась в овраг посмотреть на ручей своего детства. Я не была там… Даже не хочется считать, сколько лет прошло.
Русло ручья очень сильно изменилось. Во времена моего детства там была вертикальная глинистая стена, которая теперь осыпалась. В этой глиняной стене у меня был небольшой городок. Его строительство я начинала с того, что ковыряла отверстие – получалась печь, где пеклись пирожки. Потом делала маленькие ниши-домики, в которых стояли кровати и шкафы. Деревяшки и веточки изображали людей, они ходили друг к другу в гости…
Елки-палки, неужели я во все это играла?..
И как же я изменилась с тех пор.
Или не изменилась?..
В 80-х годах недалеко от бабушкиной деревни, на 91-м километре, стал останавливаться пригородный чебоксарский поезд. На котором мы – я, мама и моя двоюродная сестра Надя – и отправились однажды навестить бабушку, чтобы договориться, где она будет зимовать в том году – у нас в Канаше, у тети Маруси в Большом Сундыре или поедет в Ригу, к сыновьям.
Остановка была оформлена незатейливо, по-спартански. Это было просто место в лесу, где поставили маленькую будочку кассира. Поезд останавливался там буквально на пару минут. Никаких платформ, конечно же, не было, и люди спрыгивали с высоких ступенек на скрипучую железнодорожную гальку чуть ли не с двухметровой высоты.
Стоя в тамбуре, я с ужасом смотрела вниз, понимая, что мне сейчас придется туда прыгать. Это было высоко, но я видела, что никого кроме меня это не смущает. Из всех вагонов длинного поезда летели сумки и с шутками-прибаутками сыпались люди. Спрыгнула и я. Стало весело и даже задорно. Поезд дернулся и поехал дальше, люди расходились в разные стороны, мама оглядывалась, выискивая деревенских знакомых, чтобы спросить дорогу. Несколько тропинок уходило в лес, и какая из них наша – вопрос был не просто интересный, а очень важный. Потому что было уже шесть вечера и как-то не очень хотелось блуждать по лесу в сгущающихся сумерках. К тому же мы все были обвешены сумками с хлебом и другими продуктами для бабушки.
Надя уже начала посмеиваться над мамой, называя ее Сусаниным, а я потихоньку паниковала, зная, что тут ходит только один поезд в сутки, и он уже скрылся вдали. Следующий будет только завтра.
И тут мама увидела кого-то из Нижнего Девлизерово, он и указал нам нашу тропиночку, по который мы углубились в лес. Вскоре мы вышли на большую полянку и мама, узнав ее, начала рассказывать, что это поляна их колхоза, они косили здесь сено, а она шестнадцатилетней девочкой работала во время войны счетоводом и ходила сюда обмерять стога.
Очень быстро мы вышли к нашему оврагу, как раз туда, где когда-то я построила глиняный городок, и на его противоположной стороне увидели женскую фигуру в длинном платье и платке.
– Смотри-ка, да ведь это бабушка, – своим насмешливым голосом сказала Надя, – стоит смотрит: мы или не мы?
– Откуда она узнала, что мы приедем? – удивилась я.
– Почувствовала, наверное, наши флюиды, – продолжала посмеиваться Надя.
– А она всегда меня здесь встречает, когда я приезжаю, – сказала мама, которая единственная из четырех бабушкиных детей жила поблизости и навещала ее не реже, чем раз в месяц.
«Она что – телепат?» – подумала я. И спросила:
– А как она узнает, что ты приедешь?
Тогда, в начале 80-х, еще не было мобильников в каждом кармане. На обе деревни, Нижнее и Верхнее Девлизерово, был только один телефон, который стоял в правлении колхоза. И позвонить бабушке было невозможно.
Когда мы, запыхавшись, выбрались из оврага, бабушка всплеснула руками и сказала по-чувашски что-то типа:
– А я смотрю – вы или не вы?
– Ты нас тут ждешь? – спросила Надя, обнимая и целуя бабушку.
– Здравствуй, бабушка, – сказала я, тоже обнимая ее твердую спину, а она прикоснулась к моей щеке сжатыми, усохшими остатками сухих губ. – Мама, спроси, как она узнала, что мы приехали? – попросила я, и мама заговорила с бабушкой по-чувашски.
Я прямо-таки замерла в ожидании ответа. Неужели она каким-то образом почувствовала наше приближение? Материнское сердце подсказало?
Но все оказалось гораздо проще. Оказывается, бабушка, зная, когда приходит вечерний поезд, по пятницам и субботам всегда выходит в это время к тропинке, которую протоптали через овраг люди, идущие со станции в деревню.
Постарела моя мама, умерла от воспаления легких Надя, бабушкин дом после ее смерти раскатали на бревна и продали на дрова. А я все помню эту встречу, высокую, уже чуть сгорбленную фигуру бабушки в чувашском фартуке с двумя рядами оборок, ноги в шерстяных носках, обутые в резиновые галоши. Как она стоит, подняв руку, прикрывшись от заходящего солнца, и никак не может рассмотреть, кто там идет. Но она стоит и ждет, потому что мы давно не приезжали, а сегодня суббота, выходной день, значит, возможно, это мы вышли из леса и идем по тропинке.
Это и было мое последнее посещение оврага. Потому что осенью бабушка умерла от воспаления грыжи. И мы теперь ездим в деревню только на Троицу.
Но в деревне осталась жить наша родственница. Женщина святая в своей скромности. Вы много знаете людей, которые за свою жизнь никого не обидели? Вот она совершила такой жизненный подвиг. Прожила семьдесят пять лет и слова грубого никому не сказала. Я ее просто обожаю за скромность и нечеловеческую, вернее, негородскую работоспособность. Встает в пять утра, ложится в десять вечера, и весь день работает. Весь день!
Для меня это что-то невероятное. Я так точно не смогу. И даже не знаю, что должно случиться, чтобы я поднялась в пять утра.
Каждый год, приезжая на Троицу, мы, родственники, после кладбища собираемся в ее доме. Однажды нас съехалось особенно много, и мы всей компанией пошли прогуляться по деревне и вышли к оврагу посмотреть на просеку в лесу, которую прорубили, чтобы провести газопровод к деревне. Мы расположились как раз там, где я в детстве спускалась к иве за водой. Вниз спускаться не стали, присели на самой верхушке оврага погреться на июньском солнышке и обменяться впечатлениями. Слушая разговоры своих троюродных сестер, я смотрела на овраг моего детства. Русло ручья очень сильно изменилось, стены, в которой был расположен мой городок, не было вообще. Она осыпалась и заросла травой.
И вот тогда я решила воспользоваться приглашением тети Раи и во время отпуска приехать сюда, чтобы посидеть в овраге одной. К бабушкиной деревне теперь проложили асфальт, и три раза в день сюда ходит автобус из Канаша. И уже никто не ходит в деревню пешком ни со станции Алешево, ни с 91-го километра.
И дорога моего детства через поля ржи и люцерны, наверное, заросла травой и кустарником.
Вырваться из городской суеты удалось в августе. Знакомая дорога через Цивиль, Шихазаны, поворот в город у военкомата, перед которым по-прежнему стоит статуя солдата в плащ-палатке и с автоматом Калашникова. Конечно, автовокзал районного центра имеет далеко не гламурную внешность. Народ там простой, энергичный и веселый, который пакуется в дряхлые, скрипучие ПАЗики, не утруждая себя изысками этикета. Но я выросла среди этих людей, и, честно говоря, мне нравится суровая простота их нравов. Здесь не принято пропускать вперед женщин, поэтому, когда подошел нужный мне автобус до бабушкиной деревни, я покрепче ухватила сумки и вклинилась в толпу, сплотившуюся перед кондуктором. Вообще-то у меня в билете был указан номер посадочного места, но я помнила, что в пригородных автобусах на это никогда не обращают внимания. Там действует очень простой принцип: где смог, там и сел. Или встал.
Главное – оказаться в автобусе. А сидишь ты или стоишь – это уже мелочи. Тем более, что люди вокруг обычно собираются общительные, веселые, с простым и прямолинейным чувством юмора, который присущ жителям чувашских деревень.
Да уж, пригородный автобус – это вам не московское метро и даже не чебоксарский троллейбус. Тут многие друг друга знают, здороваются и устраиваются рядышком, чтобы поделиться новостями и посплетничать об общих знакомых. Такой своеобразный клуб общения. Никто не замыкается в себе, не погружается в свои раздумья, автоматически отсчитывая остановки. Все рассматривают соседей, и не просто рассматривают, а запоминают манеру поведения, вникают в суть характера случайных попутчиков. Увидев знакомое лицо, вспоминают, где его видели, и даже могут обратиться с вопросом: «А вы не подскажите, где я вас видела?». И потом, вернувшись домой, будут рассказывать, кого встретили, как он или она вели себя, где сидели, куда ехали, сколько стоит их куртка или плащ и какого они цвета.
Провинция – это своеобразный незатейливый мир, где вместо посещения театра – поездка в пригородном автобусе. И даже трудно сказать, что интереснее. А уж правды жизни в этом автобусе… ну, просто с избытком. Можно сказать, эта незамысловатая и абсолютно негламурная правда жизни просто плещет из всех его дребезжащих окон.
Выйдя из этого жизнерадостного автобуса и оставив вещи у тети Раи, я спустилась в овраг.
У каждой медали две стороны, а у оврага два склона – северный, более высокий и крутой, и южный. Бабушкина деревня расположена на северной, суровой стороне оврага. Трава здесь редкая и невзрачная, потому что нет ей спасения от палящего весь день солнца, а дождевая вода стекает слишком быстро, не задерживаясь на крутом склоне. Поэтому выживают здесь только самые неприхотливые и непритязательные растения.
Я спустилась вниз и села, обхватив колени руками.
Даже в ветреный день в овраге всегда тихо и спокойно. И ты растворяешься в этом треугольнике пространства, начинаешь чувствовать его, становишься его безмолвной частью…
Я легла на спину, закинув руки за голову. Надо мной висели низкие, летние облака.
Человек – единственное существо на этой планете, которое может осознавать себя, и которое думает о смысле своего существования.
Лежать было неудобно. Земля ведь только кажется ровной, на самом деле она вся в мелких неудобных бугорках. Я снова села.
Зачем мы вообще думаем о таких вещах? Зачем пытаемся понять то, что понять невозможно?
В этом мире нет ничего постоянного, но только человек беспокоится о том, чтобы «остановить мгновение», пережить как можно больше моментов счастья, избежать страданий и всю свою жизнь тратит на то, чтобы достигнуть максимального комфорта. И умереть в этом комфорте, лежа на удобном, красивом диване перед телевизором. Или в кресле перед компьютером.
В нашей семье к неизбежности смерти всегда относились с философским спокойствием. Мы не атеисты и не особо верующие, хотя в церковь на всякий случай ходим, и все – крещенные. В загробную жизнь у нас никто не верит. И поисками смысла жизни не заботится. Надо работать и растить детей. Все остальное – от лукавого.
Да, дьявол знал, что делал, когда протягивал Еве плод именно с Древа познания Добра и Зла. Но мне не хотелось думать об этом здесь, под этими облаками, сидя на этой траве, в этом воздухе детства, который окружал меня со всех сторон. Подумаю в городе, где совсем другой воздух, другое время, другая жизнь и другие мысли.
А здесь так тихо и спокойно…
Я посмотрела на часы. Уходить не хотелось, но не будешь же вечно сидеть в овраге. Я же все-таки пока еще живая, да и тете Рае, наверное, хочется поговорить со мной, узнать последние новости и рассказать свои. И я уже заметила, что на столе у нее стояли пироги. Очень вкусные, из деревенской печки.
Время разомкнуло свои объятия, выпуская меня из оврага, чтобы я вернулась к своим каждодневным, будничным делам.
В фильме «Прометей» Ридли Скотта главная героиня все хотела понять, зачем Бог нас создал. И робот-андроид спросил: «А зачем вы, люди, создали меня?». Ему ответили что-то невразумительное. А ведь мы придумали роботов, чтобы они делали то, что нам не под силу или что нам не хочется. Может и мы нужны этому миру потому, что он нуждается в нашей помощи? Нам надо сделать что-то такое, что никто, кроме нас, не сможет…
Что именно?
Спасти Землю от какой-то катастрофы? Разве это во власти человека? Мы бессильны перед цунами или землетрясением, и даже страшно подумать, что будет с человечеством, если полярность магнитных полюсов планеты все-таки поменяется.
Предположим, похолодание или потепление мы сможем пережить. Хотя при нашем уровне демократии, когда каждый сам за себя и выживает даже не самый сильный, а самый жестокий и добро давно уже отступило, не зная, как победить глупость зла и лень равнодушия… А мы выдумываем всех этих героев, спасающих Землю в последний момент, надеясь отсидеться за их спинами… Но при катаклизмах может выжить только та цивилизация, которая сохранила общечеловеческие, нематериальные ценности и люди могут объединиться вокруг умных прагматиков, а не хвастливых бездельников…
Нет, мы не готовы к серьезным испытаниям. И Он напрасно на нас надеялся, мы не справимся с Его поручением.
Там, в глубине Эдемского сада, в тишине его безмолвия, есть еще и Древо бессмертия, но этих плодов нам точно не вкусить. Потому что каждый из нас ищет только личного бессмертия.
Да и что мы будем делать, получив рецепт вечной молодости? Умирать – страшно, жить вечно – скучно. Что делать человеку после ста лет, даже если у него сохранилось здоровье? Пересчитывать прапраправнуков? Путешествовать?
Но мы и так путешествуем – летим сквозь черноту космоса, среди звезд, привязанные к Солнцу, окруженные воздухом нашего времени.













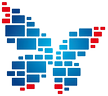


Комментари хушас