Валерий ГОЛЕВ. 120 секунд
Многие месяцы мне приходилось жить далеко от Родины. Бесконечное время. Бесконечная чужбина. Бесконечная тоска.
Помню, как приходили минуты, когда тоска по Родине была столь сильна, что я убегал из штурманской рубки в каюту, чтобы поплакать. У моих товарищей тоже бывало такое. Если не мог уйти в каюту, то плакал, склонившись в штурманской рубке над приборами. Хорошо помню те слезы – большие и тяжелые – слезы сильного молодого мужчины. Я просил море и ветер донести до родной земли мои молитвы, а обратно – хотя бы запах родных мест.
Однажды я получил письмо, в которое мама положила веточку полыни со двора. Как я тогда рыдал!
Боже! Как хорошо думается о Родине, когда находишься вдали от нее! Хочется умереть сейчас же, сию секунду, лишь бы она была и здравствовала, и рождала б счастливых людей.
Первые дни после возвращения с чужбины острая душевная болезнь – почти невыносимая любовь к Родине – терзает нещадно. Ты уже дома, среди родных любимых людей, а по-прежнему жалко эту землю.
Но проходит время, и наступает момент, когда отчетливо понимаешь, что родная сторона обманула, высосала из тебя уже столько сил, что пора снова бежать из нее, чтобы не возненавидеть то, что нельзя ненавидеть. Тогда я снова иду в море, где измучившись до смерти прощаю Родине ее предательство и надеюсь на ее счастливый завтрашний день.
И снова изо всех сил стремлюсь к тому, что есть боль и сладчайшее счастье, что нельзя ненавидеть, а надо бы только любить.
Начался восьмой месяц с того момента, когда мы отошли от пирса родной бухты Средней залива Владимира и покинули территориальные воды Советского Союза.
Я поймал себя на мысли, что уже давно привык к ровному искусственному свету, специфическому запаху, который исходит только от подводных лодок и которым одежда пропитывается раз и навсегда.
В разговорах моряки все чаще произносят слова «солнышко», «ветер», «родные», «дом». Тоска по свежему, а не восстановленному путем химической реакции воздуху, похоже, гложет весь экипаж. Мы уже больше месяца находимся под водой в замкнутом и весьма ограниченном пространстве. Большая часть жизни экипажа в этом дальнем походе проходит на глубинах от ста до двухсот метров. Мы стерты с лица Земли. Нас нет на ее поверхности.
Я принадлежу к числу тех немногих счастливчиков, которым дано хотя бы видеть (при подвсплытии на перископную глубину) небо, чистое или в облаках; небесные светила; поверхность моря, которое может быть спокойным или штормовым; а то и попавшую в поле зрения чайку.
Совсем недавно наша атомная подводная лодка с крылатыми ракетами осуществляла скрытое слежение за американским авианосцем и его шестью кораблями охранения. Мы перепахали всю северную часть Индийского океана, непрерывно держа авианосную группу на прицеле. По пути от Оманского залива к острову Сокотра пришло сообщение о гибели советской лодки в Атлантике.
Мне представилось, как десятки «потаенных судов» разных стран пронзают своими совершенными корпусами толщи вод Мирового океана, участвуя в опасных для всего человечества операциях «холодной» войны.
Срочное погруженье!
Задраен рубочный люк!
Сто двадцать секунд – как мгновенье,
Как сердца надорванный стук!
Камнем падаем в толщу.
Трясется корма – самый полный!
Обманчивы звездные ночи!
Коварством ласкают волны!
В подводной лодке – тревога.
Объявлен режим «Тишина».
Тревожим почтенного БОГА:
«Не дай Бог, не дай Бог – война!»
В открытом и вольном море
Для жертвы друг друга пасем.
На случай надуманной ссоры
Ужасный заряд припасен.
Все ложь обрядили в тогу
Всеобщего кумира.
Нет Бога, кроме Бога.
Нет мира, кроме мира.
Эту пацифистскую песенку в прошлом году пел в каютах наш бывший сослуживец Сережа Иванов. За подобные куплеты, хрипотцой пропетые под раздолбанную ленинградскую шестиструнку, старшину команды акустиков и мичмана флота уволили со службы без выходного пособия и без пенсии перед самой «автономкой». Опальный моряк стал активно концертировать на кухнях бывших коллег. Незатейливые песенки быстро превратили Сергея Иванова в символ свободной мысли режимных военных поселков Приморья.
А сто двадцать секунд необходимо было нашей лодке для погружения из надводного положения на безопасную от таранного удара глубину.
Я вспомнил, как начальник политического отдела дивизии капитан первого ранга Дранч, мужчина необъятных габаритов, обличал на офицерском собрании наш экипаж:
– Вы оказались слепы и небдительны!
– Действительно! – съерничал вполголоса минер.
– Вы пригрели на своей груди…
Минер осмотрелся вокруг и внес поправку:
– Своих грудях…
– …змею предательства, подлости и разврата! Среди вас находился враг! Он сидел с вами за одним столом и ел с вами один хлеб. Он пел вам растлевающие шансончики и срывал аплодисменты. Прямо скажу – не-зас-лу-жен-ные! О чем пел этот Иванов? Что это за слова такие:
«Ракушка – огромная дыра
На судьбах у молодых ребят?..»
Что значит «На судьбах у»? Этот Иванов элементарно безграмотен! Уж пел бы лучше «В судьбах молодых людей». Теперь, товарищи офицеры, я разберу еще один пасквиль на героев-подводников нашего доморощенного, с позволения сказать, барда. Зачитываю дословно.
Дранч достал из нагрудного кармана листок и аккуратно расправил его.
– Хранит у сердца, вместе с партбилетом, – не преминул вставить свое слово Колька-минер.
– Слушайте внимательно, товарищи офицеры! Обратите внимание на …гнилой душок, который исходит от этого… стихотворения. Нет! Не стихотворения! А пародии на литературное произведение.
И начальник политотдела нараспев, с выражением, стал читать с листа, помогая себе жестами и мимикой:
В чреве стальной субмарины,
Со странной, нежданной судьбою,
Венчанные с глубиною,
Жизнь коротают мужчины.
Не каждый спасет здесь душу.
Совесть спасет здесь не всякий.
Без жалости мнет и душит
Планета Железяка.
Романтика – редкая гостья
В цепи подводницких будней.
Фортуна лукавит в кости;
В ее мы поверили плутни.
Великим обманом прикрыта
Простая того причина,
Ради чего зарыты
Заживо в воду мужчины...
Капитан первого ранга Дранч около получаса разбирал стихи мичмана Иванова, критикуя их с политической и литературной позиций, в которых, конечно же, капитан первого ранга обязан был разбираться лучше мичмана примерно настолько же, насколько звание Дранча было выше звания Иванова.
…Даже пока я вспоминал этот эпизод, с каждой из субмарин, бороздивших необъятные просторы Мирового океана, могла случиться беда. Выход в море подводной лодки – это всегда риск, непредсказуемый финал, борьба со стихией, с самим собой...
Когда мы всплыли у острова Сокотра, нас ждало полтора десятка вымпелов оперативной эскадры Индийского океана, считая и суда обеспечения, спасателей, госпитальное судно, и, разумеется, десантный корабль с морской пехотой.
На якоре в надводном положении мы провели всего три дня. Экипаж сменами свозили на борт плавучего госпиталя для медицинского обследования и лечения. Свою очередь мне пришлось уступить БАСу – Баронову Александру Сергеевичу.
– Штурман, ты и так здоровее здорового. Выручи! Тут одна потрясающая врачиха повторный курс назначила, а мне вахту стоять… Я уже и старпому сказал, что ты согласен. А?..
Я взял у тонко организованного душой командира группы акустиков красно-бело-красную повязку «како», надел на свою левую руку и сделал БАСу пальцами «адье».
– Спасибо, штурман! Ты же все равно у нас… монах Пересвет.
– Теперь ты – на службе, а Саня – на дружбе, – поупражнялся в остроумии мой закадычный приятель Колька-минер. Вытаращив глаза и делая голос, как у спортивного комментатора Николая Озерова, минер проорал на всю верхнюю палубу:
– Замена в ходе встречи! Акустик обводит штурмана вокруг пальца. Да-а-а! Как два пальца об асфальт! Вот акустик выходит один на один с капитаном медицинской службы. Игрок в белом халате применяет против БАСа грубый силовой прием! Бросок! Еще бросок! ГО-О-ОЛ! Как сокол! БАС предпринимает ответную контратаку, прорывает оборону команды в белых халатах! Бросок! Бросок! Еще бросок! Это ничья! Такой хоккей нам не нужен!
Затем, поставив ладони рупором, минер изобразил репродуктор на железнодорожном вокзале:
– Уважаемые граждане отъезжающие! Не забудьте вставить беруши! Чтобы кое-что не хлынуло через уши! Внимание всем военморам! Застегните гульфики, зашейте карманы, чтобы ваши дымящиеся от долгого воздержания торпеды, взятые наперевес, не навели ужас на медперсонал и не пробили обшивку госпитального судна!
– Коля, не трынди, – посоветовал я минеру, – ты и так всех акул распугал.
– Я может напрасно растрачиваю свой талант перед неблагодарной публикой, но я не такой непробиваемый идеалист, как ты, штурман. Ради недостижимой цели совершенствования человечества лишаешь себя простых и естественных жизненных радостей. Молод иш-шо! Да и повзрослеешь не скоро. Судя по всему – годам к сорока только. Если доживешь…
…Еще два дня мы провели в столице Южного Йемена – Адене. Странно было видеть следы недавнего боя танков советского производства против катеров советского производства. Несколько подбитых танков дымились на причальной зоне; примерно столько же катеров, уткнувшись в мелководье, догорали в бухте. Такова гражданская война.
Совсем недавно наши моряки спасли иностранцев от жестокой расправы местных жителей. Нескольких англичан забрала дизельная подводная лодка. Советских граждан йеменцы не трогали. Помимо оружия, наша страна поставляла им продовольствие, медикаменты, горючее.
После Адена несколько дней мы провели в Красном море. Естественно, в надводном положении.
У архипелага Дахлак эфиопские партизаны пытались взорвать нашу атомарину, приняв ее за дизельную подводную лодку. Морские пехотинцы вовремя обнаружили подводных диверсантов и обстреляли их из крупнокалиберного пулемета. Пули попали во взрывчатку, и от диверсантов почти ничего не осталось. А Красное море избежало атомной аварии.
Теперь мы снова шли в водах Индийского океана в сторону Вьетнама, где нам предстояли и работа, и отдых. Корабль только что миновал меридиан Коломбо. Я проложил курс на пролив Грейт-Чаннел, сдал вахту и пошел в кают-компанию подкрепиться.
Прием пищи уже окончился. Свободные от вахты офицеры играли в шахматы на звание чемпиона экипажа.
Некормлеными остались только двое – командир дивизиона живучести капитан третьего ранга Веселов Вячеслав Борисович и я.
– Марат, убери эту тарелку и налей борщ в другую.
Марат Галин, вестовой матрос, молча передал тарелку в раздаточное окошко, принял от напарника матроса Фрейдиса новую порцию борща и передал Веселову.
– Галин, я третью порцию тебе возвращаю. Ты никак не поймешь. Я не буду есть борщ, в котором ты моешь большие пальцы своих рук. Вылей это и подай новую порцию. Но не купай в моем борще свои руки!
Я предпочел выпить два стакана компота.
В кают-компанию заглянул замполит Антон Иванович Тенежиян.
– Штурман, вы играете в шахматы?
– Уже нет. Вчера проиграл и выбыл из соревнований. Доктор применил запрещенную технику: купил у меня победу за десять сеансов иглотерапии и мою порцию вина до самого Вьетнама.
– Я разберусь с этим доктором!
– Не надо, Антон Иванович! Мы – по обоюдному согласию…
– А кто предложил?
– Конечно, я…
– Не верю, штурман. Но делаю вам замечание.
– А об чем замечание, товарищ замполит?
– Не грубите, штурман. Вы же интеллигент. Вам так не к лицу грубость.
– Штурман, замполит намекает, что грубость тебе идет к другому месту.
– А с вами, Веселов, я вообще не разговариваю.
– Да и я с вами, товарищ капитан третьего ранга. Тем более, что вы, войдя в кают-компанию, даже не пожелали нам со штурманом приятного аппетита.
– Приятного аппетита, – сказал Тенежиян.
– Спасибо, – ответили мы с Веселовым.
– …штурман, – продолжил замполит, выходя из кают-компании.
– Балласт, – заключил Веселов в спину Тенежияна.
– Самый хитрый из армян – замполит Тенежиян, – пропел, двигая фигуру, начинающий специалист по космической разведке Жека Кушнер.
– Тебе мат, певец, – обрадовал своего подчиненного Владик Берзев. – Иди, скажи замполиту, пусть в таблице отметит.
– Я ему скажу, что ты воспользовался своим служебным положением и приказал мне проиграть. Тенежиян поверит и устроит тебе головомойку.
– А потом я тебе. Только намылю не только голову, но и...
– Интим не предлагать!
– Я и не буду.
– Кстати, штурман, – поспешил сменить тему Кушнер, – какая самая популярная глубина погружения была на прошедшей вахте?
– Сто девяносто семь.
– Спасибо.
Я спустился палубой ниже в каюту командиров боевых частей, достал дневник, замаскированный под конспект первоисточников классиков марксизма-ленинизма, и сел писать о жизни героев-подводников: «Нет повести печальнее на свете…»
Замполит материализовался в каюте неслышно, как слуга инквизиции. В руках он держал стопку книг. Сверху лежал «Вий» Гоголя. Мое услужливое воображение прокрутило кадры из одноименного кинофильма с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей: бледный бурсак часто крестился в меловом круге, по периметру которого летала в гробу панночка.
Volens-nolens (волей-неволей) подумалось о вечном.
Я закрыл дневник и убрал на полку. Замполиту была видна лишь надпись «Конспекты».
– А дайте мне, Антон Иванович, Гоголя!
– Ты что, штурман, «Вия» не читал?
– Читал. Люблю, знаете ли, Николая Васильевича. Наслаждаюсь его слогом.
– Возьми что-нибудь другое.
– Беру Гоголя. Мне через пять часов на вахту. Я сейчас спать лягу.
Я взял «Вия», поставил на полку рядом с конспектами и стал расправлять койку.
– Отдыхай, штурман.
Я кивнул, разделся, повесил у изголовья ПДУ – портативное дыхательное устройство, и, взлетев на второй ярус, почти мгновенно уснул.
…Сон освежил, принес долгожданный отдых. Вахта началась легко.
Командир вызвал интенданта и приказал «отменно накормить штурмана».
Тот принес красную икру, балык, хлеб, кофе и шоколад, на двоих.
Мы неплохо подкрепились.
– Ну, поели, можно и поспать, – произнес довольный кэп. – Штурман, где мы?
Я показал точку на карте.
– Штурман, а не пора ли проверить отсутствие слежения за нами? – Кэп, склонившись над путевой картой, тоже взял циркуль-измеритель и прошелся им по курсу.
Я доложил результаты расчетов и свои предложения.
– Согласен, штурман. Через пять минут командуй начало маневра, – сказал командир и лег на кровать в рубке.
Я предупредил вахтенного офицера и вахтенного инженера-механика о предстоящем маневрировании. Они отдали необходимые распоряжения. Вахтенный инженер-механик Веселов Вячеслав Борисович сообщил по корабельной связи офицерам, обслуживающим пульт управления главной энергетической установкой, то есть двумя ядерными реакторами, о возможных частых и кратковременных изменениях режима движения.
– Быть готовыми к даче реверса, – Веселов отключил связь. – А ты сними управление рулем глубины с автомата. Управлять будешь вручную.
Старший матрос Хутаба – командир отделения рулевых-сигнальщиков – самый опытный после боцмана специалист в своем деле. Все «рули» (так на лодках называют рулевых-сигнальщиков) – мои подчиненные. Еще один из них сидит слева от командира отделения спиной к нему и управляет лодкой по курсу.
Хутаба мнет кистевой эспандер – использует время вахты с максимальной пользой.
Из второго отсека в центральный пост, согнувшись, как и все, в проеме круглой переборочной двери, пришел старший помощник командира корабля и с шумом опустился в камазовское кресло. Старпом – мужчина не крупный и подвижный. И всегда от него получается много шума.
Камазовское кресло командир распорядился поставить в центральном посту перед самой автономкой: его спинка почти упирается в носовую переборку отсека. Чтобы попасть в штурманскую рубку, расположенную по левому борту корабля, из кресла достаточно просто встать и перешагнуть через комингс – порог. Все главные контрольные приборы, расположенные в центральном посту, из этого укромного и удобного места видны как на ладони.
Когда штурманы выходят из своей рубки или входят в нее, вахтенному командиру (кэпу, старпому или замкомдивизии) приходится убирать ноги с пути навигаторов. Но когда вахтенного командира сморит сон, то штурманы перешагивают через ноги своих непосредственных и прямых начальников как через беговые барьеры.
Я посмотрел на корабельные часы.
– Пора, товарищ командир.
Кэп одним глазом взглянул на свой ручной хронометр и кивнул.
– Командуй, штурман.
Я уже открыл было рот, чтобы рекомендовать вахтенному офицеру начать маневрирование на предмет проверки отсутствия слежения за нами, когда старший матрос Хутаба уронил на палубу эспандер. Рулевой наклонился за спортивным снарядом и нечаянно плечом перевел рычаг управления лодкой по глубине на погружение.
Лодка ранено клюнула носом и камнем пошла вниз.
Кэп ругнулся и вскочил с койки, но тут же, скользнув поверх стола автоматического прокладчика курса корабля, улетел головой за него, ударившись о приборы, закрепленные на носовой переборке отсека. Над картой торчали только ноги в кожаных подводницких тапках в дырочку.
Я успел ухватиться за переборку штурманской рубки и пытался вылезть в центральный пост. Было трудно попасть в узкий проем, изменивший свое привычное расположение в пространстве. Я продирался из рубки изо всех сил.
Угол наклона носа корабля ко дну (дифферент) нарастал с дикой скоростью. Секундная стрелка часов взбесилась: то ли время растворилось в нас, то ли мы растворились во времени. Корабельные часы жили отдельной жизнью; я же физически ощущал вязкость и плотность каждого мгновения, то растянутого до громоздкого неприличия минуты, то спрессованного до наглой скорости ничем не прикрытой мысли.
В центральном посту все было кувырком. Старпом каким-то фантастическим образом завалился за спину камазовского кресла и прикладывал титанические усилия для того, чтобы выбраться из неожиданной ловушки.
Все вахтенные отсека попадали со своих мест, крепко ударившись о механизмы и арматуру.
Веселов, оказавшийся у переборочной двери, сбросив с себя рулевого Исаева и убрав ноги со старпома, на четвереньках пробирается мимо меня к пульту корабельной связи. Я пытаюсь перепрыгнуть через механика Веселова. Неудачно. Падаю в кресло. Выкарабкиваюсь из него, прикладывая невероятные усилия. Недаром люблю спорт. Веселов добрался до своего командного пункта и по трансляции связался с пультом управления ГЭУ – отдал распоряжения офицерам. Они сманеврировали ходом.
…Стрелка дифферентометра прошла отметку пятнадцать градусов... двадцать градусов…
Я перелажу через тела, как в замедленной съемке-рапиде, и тянусь к рычагу, чтобы поставить горизонтальные рули на всплытие. «Я потом подсоблю вам, ребята! Сейчас нужно всплывать! Это важнее всего!»
Наконец-то дотянувшись до заветного рычага, ставлю горизонтальные рули на всплытие.
Помогаю Хутабе подняться. Он уже на своем боевом посту, держит рукоять рычага. Левая бровь в крови, губа тоже разбита.
– Большие кормовые горизонтальные рули пять градусов на всплытие! – докладывает Хутаба. – Лодка продолжает погружаться! Дифферент – тридцать градусов на нос! Глубина – триста десять метров!
– Ну давай, Хутаба, всплывай!
Смотрю по сторонам. Помогаю подняться Исаеву и Кольке-минеру. У обоих разбиты лица.
Исаев возвращает лодку на прежний курс.
Мичман Виктор Шаглаев, с которым мы идем вместе уже в третью автономку, добрался-таки до клапана, открыл его и подал воздух высокого давления (двести атмосфер) в носовую группу цистерн главного балласта.
При такой скорости, на такой глубине и при таком дифференте – что мертвому припарка. Но все же – теоретический шанс. Витя исполнил свой долг.
Веселов объявил по трансляции аварийную тревогу. Витя Шаглаев продублировал его корабельным звонком.
Собственно, всем понятно, что дело пахнет керосином и лодке грозит гибель.
Минер помог старпому выбраться из-за кресла. Старпом бросил в него чистовой вахтенный журнал и стал отдавать команды.
Смирный Хутаба бел, как полотно. Его рука судорожно сжимает рычаг управления кормовыми горизонтальными рулями. Кладу руку на его плечо, успокаиваю:
– Мы справимся, Хутаба! Вы – справитесь!
В центральном посту появился командир и встал за спиной рулевого.
– Лодку чувствуешь, сынок?
– Чувствую, товарищ командир!
– Всплывай, сынок!
– Есть всплывать, товарищ командир!
Все мы только тем и занимаемся, что пытаемся всплыть, а не утонуть.
Секунды и минуты превратились в отдельную жизнь нервов высокого накала.
В центральном посту восстановлен порядок.
Я протиснулся обратно в штурманскую рубку, записал в навигационный журнал координаты и обстоятельства аварийной ситуации, сделал отметку на карте. Включил эхолот, сверил глубину с картой. Доложил командиру:
– Глубина с карты пять тысяч сто метров!
– Есть! – откликнулся кэп.
– Под килем – четыре тысячи семьсот метров!
Смотрю на глубиномер и дифферентометр.
Дифферент удалось удержать на тридцати градусах, но корабль все же проваливается вниз.
Если угол не начнет уменьшаться, то через несколько минут полетят со своих оснований все тяжеленные механизмы подводной лодки.
Будто узнав мои мысли, стрелка дифферентометра стала отходить. Угол уменьшается… Двадцать пять градусов… двадцать… пятнадцать… десять… восемь градусов. На нос. Лодка продолжает падать, глубина погружения увеличивается.
– Ну, милая, всплывай! – гипнотизирует корабль командир.
Предельно допустимая глубина погружения подводных лодок нашего проекта – триста двадцать метров. Прибор показывает четыреста пятьдесят! Красная отметка на шкале давно пройдена!
Мы продолжаем погружаться, но утешаем себя мыслью о том, что заводчане сработали корабль крепким: не зря же на глубиномере оцифровка до пятисот метров!
Два больших винта яростно перемалывают воду за кормой: они пытаются вытащить нас из пучины поближе к поверхности. Но корабль весит около десяти тысяч тонн. Так просто эту махину не остановить, не вытянуть.
Неужто сейчас раздастся треск, хлопок, прочный корпус не выдержит, вода сомнет лодку, как лист бумаги, и все кончится? Каждый из нас знает физику в необходимом объеме. Мне представилась ужасная картина: срываются со станин срезанные легко, будто ножом по маслу, тяжеленные механизмы, может быть, и оба реактора, круша все и перемешивая искореженное железо с телами, с гидравликой, продуктами, пластинами регенерации, со свистом из магистралей воздуха низкого, среднего и высокого давления, паром и криками людей. Вот из кормовых отсеков падает вниз все содержимое технического чуда вместе с венцом природы – людьми, ссыпаясь в мягко подставленную ладонь Индийского океана…
Встряхнуло, пересыпало, переломало… За несколько секунд… Лодка, ударившись о дно, разворотив морду, ничего не видя и не слыша, стукнувшись и хвостом – кормой, агонизирует взрывами и пожарами еще некоторое время; но потом, затихнув, окончательно похоронив в себе всякую жизнь, умирает сама, превратившись в страшный, видимый только Богу и морским обитателям, памятник погибшим морякам…
Вот так. И все?!!
Возможно, подобным образом погибла американская субмарина «Трешер».
Но у нас еще есть шанс! Мы пока живы и боремся за живучесть корабля до последней возможности, до последнего вздоха! Каждую секунду!
Глубиномер показал пятьсот метров! Шкала на приборе закончилась. Но, по ощущениям, мы продолжаем погружаться.
Хутаба так и доложил (а ведь он один из всего экипажа сейчас чувствует организм корабля, он – наш врач и священник):
– Глубина пятьсот метров! Лодка погружается!
Прошло еще несколько долгих-предолгих секунд. К стрелкам часов будто привешены огромные многопудовые гири; тиканье отдается колокольным набатом.
«Море – моя могила и купель», – вспомнилась фраза Алексея Лебедева, поэта-подводника, погибшего в Великую Отечественную войну.
Корабль задрожал всем корпусом и передал дрожь людям. Так нам показалось. Мы переглянулись. Затаили дыхание. Прислушались к кораблю, к тому, что там, за его стальными пределами.
Лица подводников напряжены, сосредоточены. По лбам, щекам, шеям катится крупный пот. И по спинам, и по грудям, и ниже.
В глазах немой вопрос и невероятная борьба: «Верим – не верим!» И надежда! И мольба!
У кого-то – отчаянье: «Не может сейчас все закончиться! Нет!»
Несколько человек в центральном посту, в том числе и молодые матросы, поседели прямо на глазах.
Стрелка зашкалившего глубиномера не движется. Лодку трясет крупной, очень ощутимой дрожью.
Если бы перед погружением мы натянули от борта к борту нитку, насколько бы она сейчас провисла?!!
Почему-то именно в этот момент из второго отсека в центральный пост вошел наш уважаемый боцман – старший мичман Стрелец Николай Николаевич.
– Прошу разрешения, товарищ командир.
Кэп сдержанно кивнул. Стрелец положил свою ладонь на онемевшую руку Хутабы.
– Она всплывает! – громким шепотом говорит Хутаба, словно боится вспугнуть всплытие.
Несколько секунд рулевые правят вдвоем.
Боцман прислушивается к кораблю, напрягая все свои чувства. Наконец, просветлев лицом, произносит спокойно:
– Лодку чувствую… Лодка начала всплывать! Дифферент – пять градусов на корму.
Руку Хутабы свело, он не может ее разжать. Рулевому помогают боцман и командир.
– Хутаба, миленький, все хорошо, – говорит кэп. – Отпусти руку. Ты справился, сынок.
Наконец рулевой разжал пальцы и уступил управление кораблем.
Ожил и стал работать глубиномер.
– Глубина пятьсот метров! Дифферент – пять градусов на корму! Всплываем, – доложил невозмутимый боцман.
– Есть, – ответил командир. В его голосе снова металл. – Всплывать на глубину сто девяносто семь метров с дифферентом два градуса… Осмотреться в отсеках.
Боцман и механик повторили команды.
У Хутабы несчастный вид.
– Товарищ командир, – начал старший матрос, поймав на себе взгляд кэпа.
– Ничего, Хутаба. Бывает… Встань сюда. – Рулевой встал на указанное место. Командир провел молниеносный прямой удар в челюсть. Хутаба упал в кресло. Нокаут.
Дали отбой аварийной тревоги.
– Глубина сто девяносто семь метров. Дифферент – ноль градусов, – доложил боцман.
– Так держать, – приказал командир.
– Есть так держать!
– Минер, принимай вахту!
– Есть принять вахту!
В отсеках осмотрелись и доложили в центральный пост. Минер объявил по корабельной трансляции:
– Готовность номер два подводная. Третьей боевой смене заступить.
С пульта управления главной энергетической установкой спросили:
– Центральный! Кто это нас только что чуть не угробил?
– Хутаба.
– Он меня слышит?
– Уже да.
– Ты, Хутаба, хороший человек. Вот и не обижайся на нас.
Я подошел к переговорному устройству.
– Товарищ командир, разрешите, – кивнул я на «каштан». Тот молча согласился.
Я включил циркулярную связь.
– Внимание, экипаж! Говорит штурман. Прошу Хутабу не калечить. С него уже довольно.
И отключил «каштан».
Маневр проверки отсутствия слежения мы выполнили точно в соответствии с моими расчетами, только со сдвигом во времени. В вахтенном журнале минер сделал записи: «В … часов … минут начата проверка отсутствия слежения»; «В … часов … минут окончена проверка отсутствия слежения. Слежения за кораблем не обнаружено».
…В конце вахты мой «руль» заглянул в штурманскую рубку. Он охал, держась за ребра. На лице свежело несколько синяков и ссадин.
– Спасибо, товарищ командир, что заступились.
Еще недавно черноволосый Хутаба сам прошел по лодке с первого по десятый отсек, прося у экипажа прощения. Люди поняли кающуюся душу и отпустили рулевому грех.
– Слава Богу, Хутаба, что все обошлось! Слава Богу!
Перед вечерним чаем в штурманскую рубку заглянул офицер особого отдела комитета государственной безопасности. В рубке, кроме нас, никого не было.
– Где мы, штурман? – поинтересовался особист.
Я показал место корабля на карте. Он наклонился над ней и тихонечко сказал мне:
– Знаешь, мир не без добрых людей. Один патриот утверждает, что ты вместо конспектов первоисточников пишешь дневник. Тебе, конечно, известно, что согласно Корабельному Уставу ведение дневников на подводных лодках запрещено.
– Знаю. Поэтому я Устава не нарушаю и дневников не веду.
– Вот и ладненько. Докладывать о принятых мерах, как ты понимаешь, мне придется. Доложу, что произвел проверку лично, но сигнал не подтвердился… Тем более, что командир распорядился готовить наградные документы на Веселова, Шаглаева и на тебя.
Особист тихонечко исчез. Через пару минут на смену пришел штурманенок Юра Коновалов, которому я с удовольствием сдал вахту.














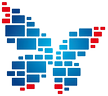


Комментировать