Масанори Гото (Япония). Не-представление Волги в русских стихотворениях Геннадия Айги
Масанори Гото – научный сотрудник Славянского исследовательского центра университета Хоккайдо (Саппоро, Япония). Проходил стажировку в Чувашии.
Автор благодарит А.П. Хузангая за помощь при переводе чувашского текста и за консультацию в ходе работы над статьей.
(…) Две книги Г. Айги были переведены на японский язык поэтом Акимицу Танака и были опубликованы1. В конце первой книги на японском языке имеется одно стихотворение, посвященное Акимицу Танаке: «Что забредает в сломанную флейту» (1995). В этом стихотворении, перевод которого был опубликован раньше оригинала, мы можем отметить следующую фразу:
Словно высох источник, начинающий – Волгу… – так, мелос умирает – в поэзии (и без чего-то, подобного «сердцу», будет – народ)2.
Дело в том, что упоминание Волги в русских текстах Айги встречается практически единственно в этом стихотворении, в котором сломанная флейта сравнивается с высохшей Волгой. Строго говоря, можно отметить, что и в стихотворении «Деревня» (1986) есть такая фраза: «для мелочей поля и лунная / дыра – как волга неба – течь / для будто в небе мелочей:»3. Но, очевидно от того, что «волга» написана мелким шрифтом, со строчной буквы, конкретика реки как топонима умаляется до того, что это слово уже воспринимается как обычное имя существительное.
Вообще в русских стихотворениях Геннадий Айги часто употребляет такие неконкретные обозначения мест как «Поле» или «Лес». У Айги редко встречаются имена собственные, которые отражают топонимику родины поэта. Не исключение и Волга. Упоминание о ней есть только в вышеуказанных стихах. Это может произвести на нас странное впечатление, так как Айги иногда называли «Малларме с Волги».
Это отнюдь не обозначает, однако, что Айги не интересовался Волгой. Мы можем найти в книге о нем Леона Робеля следующий эпизод из детства поэта. Это было осенью 1948 года, когда еще не была залечена травма от войны, на которой погиб отец. В это полуголодное время Айги отправился в дальний путь и впервые посетил город Чебоксары. По пути обратно домой он зачерпнул воду из Волги и привез ее в бутылке как святую церковную воду. Однако его молитвенное отношение к волжской воде не получило одобрения матери. Она посмеялась вместе с соседями над его наивностью. Это ранило сердце будущего поэта4 .
Этот эпизод говорит о том, что Айги с детства смотрел на Волгу как на нечто сакральное. С другой стороны, он уподобил Волгу жизненной силе флейты в тексте 1995 года. Нельзя сомневаться в том, что Волга являлась важным топосом для поэта на протяжении его жизни (см. P.S.). Несмотря на это, образ Волги (Ат=ла) не появляется в его русских стихах. Как же нам понимать это умолчание о Волге, к которой поэт должен был питать определенные чувства?
Ключ к разгадке вопроса я нашел при знакомстве с чувашскими стихами поэта. Кроме того, многие не знают, что Айги писал стихи на чувашском языке и после того, как стал известен как русскоязычный поэт. Это просто потому, что чувашский язык мало кто знает, разве что в Чувашии. Может быть, поэтому его чувашская поэзия находила своего читателя. Чувашские произведения Айги не так строго цензурировались, как его русские стихи, что давало возможность публиковаться, хотя и не так часто, в советские времена.
По сравнению с русскими стихами Айги, сочиненными без рифмы и большей частью представляющими собой верлибры, многие его чувашские стихи рифмованы, имеют регулярный метр, стандартную пунктуацию, что представляет отчетливый контраст с его русскоязычной поэзией. К тому же, в русских стихах употребляются как инварианты «Поле» или «Лес», а в чувашских стихах часто ключевыми образами выступают конкретные местности родины, в том числе и Волга. В частности, «Ат=ла – таймапуё=м» («Поклон Волге», 1984)5 – насыщенный чувашский текст, он может служить хорошим указателем в размышлениях о молчании поэта о Волге в его русских стихотворениях.
«Таймапуё=м» в заглавии можно буквально перевести «мой низкий поклон». У Айги есть книга стихов с заглавием «Поклон – Пению», импровизации на темы традиционных песен чувашей и татар, а также других народов Поволжско-Камского региона. Это емкие, лаконичные четверостишия на русском языке6. Айги долго вникал в поэтику народных песен. Мы можем предполагать, что Айги питал в душе такое же почтение к Волге, как и к песням, передаваемым из поколения в поколение в качестве свидетельства жизни предков.
Следует обратить внимание и на время творческого становления двуязычного поэта. Хотя произведения Айги на чувашском языке публиковались, это никак не означает, что у него была спокойная жизнь на родине. По свидетельству Евы Лисиной, сестры поэта, преследование по отношению к нему было сильнее в Чувашии, чем в Москве7. После того, как Айги исключили из Литературного института ввиду его общения с Борисом Пастернаком, не только в Москве, но и в Чувашии не было места, в котором принимали Айги. После публикаций в Польше, Чехословакии периода «пражской весны», в Венгрии, ФРГ, и особенно после того, как несколько произведений поэта были помещены в 1975 году в «Континенте», журнале, выпускаемом в Париже русскими эмигрантами, Айги подвергся осуждению чувашской властью. Он стал практически «невъездным» к себе на родину в течении последующих десяти лет8. То есть, Айги сочинил это произведение в 1984 году, находясь, так сказать, во внутренней эмиграции.
Начало его таково:
Не мог написать стихи про Волгу (Ат=л)-Отца, / Не мог видеть (его) как Митта и Сеспель, / Не выбирал я другую большую реку!../ Нужно было бы хотя бы голос его ввести в стих, / (Говорю я о волжской волне ). / Его шум-тишину, наверное, я только сейчас понимаю, / Как будто в детстве я слушал голос отца, и потом забыл его / Как будто все забыл, а потом заново слушал его./ Вот, этот голос Волги … (здесь и далее подстрочный перевод с чувашского мой. – М.Г.)
Во второй строчке названы имена выдающихся чувашских поэтов Сеспеля Мишши (1899–1922) и Митты Васьлея (1908–1957). Предупредив о том, что не мог сочинять стихи о Волге как предшественники, он представил вообще отличный от них образ. Митта и Сеспель оба изобразили Волгу как реку, наполненную жизненной силой и красотой. По сравнению с ними, Ат=л у Айги сохраняет тишину и связан с такими инертными по виду элементами, как забывание или сон9. К тому же, образ Ат=л’а в стихах предшественников перекликался с судьбой определенной общности, народа (хура хал=х). А у Айги Ат=л связывается с личной памятью об отце и матери.
Дальше развертывается речь от олицетворенного Ат=л’а, которая, может быть, отождествляется с голосом отца автора.
Ты моим голосом шумишь, но меня ты не слышишь! / И ты не чувствуешь, что твое сердце – мой корень: / Моя волна, раздаваясь, достигала до твоего изголовья / Входила в песню, которую когда-то раньше твоя мама пела – / Вспомни: на третьем году войны, / Твоя мама чувствовала сердцем издалека: / Я сквозь пространство земли, собрав все силы души / – Был – знаком единства!
Это двоеголосие далее сливается с песнями матери. Ат=л выделяется как архетип, как «знак единства» (п\рл\х палли), который объединяет отца и мать, мертвых и живых, тоску и надежду. И под знаком этого единства надо терпеть как земля, как холодное небо. И течение воды дает душе порыв. И это не все. В конце стиха «единство», воплощенное Ат=л’ом, втягивает и самого поэта, и далее вселенную.
И ты входишь в мою Вечность как твои отцы, / ныне с их песнями, – с другим тихим голосом! / Единство – мой завет, для тебя – судьба благословенная. // И море волнуется, и я волнуюсь, / Ты – во мне. Став с тобою одним целым, я с тобой разговариваю / Со дна реки до тысяч звезд в небе! / Ты, получив силу от меня, тревожишь небо, / Теперь потерявши себя, – не потеряй народ. / Истинное слово – должно быть таким: нельзя разделить, / Оно звучит в единстве душ одной крови! / ... Спи. Моя волна дойдет до далекого изголовья.
В самом конце, голос Ат=л’а-отца утвердительно говорит, что подлинное слово неделимо и объединяет. Мы полагаем, что здесь выражается ключевая мысль поэта, так как он был, как его называли, абсолютным поэтом, полностью преданным высокому искусству. С другой стороны, однако, возникает сомнение. Ведь именно он, вопреки тому, что «слово не разделяется», делил сам свое Слово между чувашским и русским языками и писал стихи на обоих языках совсем по-разному. Как было сказано выше, стихи поэта на русском языке внешне кардинально отличаются от стихов на чувашском. Если в первых имеются своеобразные ритмы, то вторые пишутся в рамках регулярных метров (хотя встречаются и чувашские верлибры)10. К тому же, несмотря на то, что в стихах на русском языке не говорится о конкретных приметах мест на родине, в стихах на чувашском языке, наоборот, они часто определяют главную тему. Айги сам заметил однажды, что он сознательно проводил различие между двумя языками в творческом осуществлении. По его словам, между русским языком и чувашским есть большая разница по уровню поэтики, и его стихи на русском языке принадлежат только сфере русского языка11.
Это замечание поэта, как нам кажется, входит в противоречие с его происхождением. Его отец, голос которого составляет главную тему в проанализированном выше стихотворении, был учителем русской литературы. Он при жизни переводил стихи Пушкина на чувашский язык. Несомненно, что отец повлиял на Айги в выборе им литературного поприща. С другой стороны, дед по матери поэта был последним хранителем Киреметя, культ которого почитался в старой чувашской вере12. Он смотрел за духовным местом деревни Сеньял и распоряжался при проведении чувашских молельных обрядов. Айги с детства часто слышал из уст матери и тети чувашские заклинания, которые они знали от деда. Как Айги сам признает, в его голове соединялись вместе русские слова Пушкина и сакрально-магические слова чувашской старины13.
До сих пор мало исследователей обращало внимания на происхождение поэта как на ключ к толкованию его произведений. Например, итальянский исследователь Дж. Пагани-Чеза, сознавая необходимость знания чувашского религиозного мировоззрения для того, чтобы понять «темные места» в текстах Айги, попробовала расшифровать скрытые там мифологические архетипы14. С. Убасси в своем обзоре «Два полюса Айги» уподобил поэта реке (вероятно, Волге-Ат=лу). Он заметил, что на «восточном берегу» реки, то есть в чувашской стороне поэта, проявляется инстинктивное стремление к прототипам коллективного. И дальше указал на необходимость извлечения символических обозначений Востока и Запада, имеющихся в произведениях Айги15. Также Сара Валентайн считала, что такие риторические особенности поэта, как загадочная структура стихов или частое употребление слов, соединенных через дефис, происходят от особенностей чувашского языка.
Однако сам Айги решительно отрицал возможность соединить два мира, русский и чувашский, через особенности словоупотребления в своих текстах. Атнер Хузангай записал следующее замечание поэта:
«Все, что можно назвать моим творчеством, уже более двадцати лет полностью принадлежит сфере русского языка, который никогда не являлся для меня средством внесения, передачи в него чего-либо из инородной культуры. «Русскоязычное» для меня всегда означает «русское»; сознавая особенности своего положения, я старался выразить «характерные черты» России Среднего Поволжья с вниманием к той русскости этой области, которая своеобразно обогащает общерусскую культуру»17.
Нельзя смешать два языка в творчестве. Этот девиз проявляется в его отношении к переводу. Айги долго занимался переводом произведений таких француских поэтов, как Бодлер, Малларме, Рене Шар и других на чувашский язык. Также он собрал произведения польских и венгерских поэтов и издал соответствующие антологии18. К тому же, он составил и сделал подстрочники текстов антологии чувашской поэзии, которая охватывала произведения от старинных молитв, заклинаний, заговоров до современной авторской поэзии19. Тем не менее, несмотря на то, что поэт отдал дань переводу других поэтов, он не переводил своих произведений с чувашского на русский язык (или наоборот). Он однажды признался, что пробовал раньше переводить свои стихи, но не получилось20. По его словам, чувашский язык не имеет возможностей для адекватного перевода его текстов. Он взял себе на вооружение ритуально-поведенческие психологические моменты из чувашской традиции. Но языковые сферы русского и чувашского у него «абсолютно не совмещаются».
После того как Айги начал писать на русском языке, он не перестал писать на чувашском. Но кажется, что он ставил основной акцент в творческом самовыражении на русском языке. Из его бесед мы узнаем, что его чувашские стихи неким образом «возникали сами по себе», не как художественные произведения. Он говорил, что писал стихи на чувашском языке не только для того, чтобы дарить друзьям (хотя у него много стихов-посвящений), но отчасти из-за того, что это было нужно, чтобы «поддерживать свой статус пишущего по-чувашски поэта»21. С другой стороны, когда он писал стихи на чувашском языке, а также когда он переводил францускую поэзию на чувашский, он избегал пользоваться заимствованными словами и заменял все слова на чувашские22. Судя по такому последовательному разделению творческих языков, кажется, он не допускал никакого компромисса. Итак, несмотря на то, что он писал стихи и на чувашском, и на русском, он считал эти языковые сферы отличными друг от друга и не принимал их взаимопроникновения. Но не является ли это противоречием, когда мы читаем в предыдущем стихотворении, что Слово должно приводить к «единству»?
Проследим подробнее обстоятельства того, как Айги начал писать стихи на русском языке. Нам известно, что первые опыты относятся в концу учебы в Литературном институте. Правда, его выбор языка привел в результате к увеличению числа потенциальных читателей. Но этот языковой сдвиг произошел отнюдь не по расчету, а по более острой и неизбежной причине. Как уместно отметил А. Хузангай, смена языкового кода поэта в данный момент не обозначает просто переход с чувашского на русский язык23.
Решающий момент в отношении к языкам в стихотворчестве Айги возник в то время, когда он был исключен от Литинститута и присматривал за больной матерью в родной деревне. Ева Лисина, сестра поэта, свидетельствовала о следующем факте: «Как-то утром, собирая со стола листки, исписанные братом за ночь, я остолбенела – лежало стихотворение, написанное по-русски:
Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида
ее домотканого платья.
Это стихотворение и удивило, и ударило по сердцу. Удивило то, что Айги начал писать по-русски. Болезненное же восприятие можно объяснить вот чем: конечно, мама умирала, но до самой ее смерти я не признавала это, не могла произнести это слово, а тут оно было сказано прямо, не оставляя никакой надежды. К тому же, в этих нескольких строках очень точно передан мучительный образ мамы»24. Подтверждая слова сестры, Айги сам сказал, что когда он вернулся ухаживать за матерью, решил строить «тугие пространства» в стихах, совсем новые в русской поэзии25. Если так, то что это означает: «тугие пространства»?
Как я уже упомянул, в стихах Айги часто употребляются слова, обозначающие такие природные пространства, как поле, лес, овраг. Многие в своих толкованиях попытались соединить природные образы в его текстах с чувашскими религиозными и мифологическими представлениями. Однако Айги сам, в основном соглашаясь с такими мнениями, говорил, что он не имел в виду никаких «архетипов», когда писал стихи26.
А. Хузангай уподобил такие природные образы, как поле и лес, которые лежат в основе стихотворений Айги, «У-топии», которую нам нельзя ни видеть, ни ощущать27. По его словам, поэт воплощает через абстрактные слова высшие начала бытия, «ино-бытия» и «не-бытия». То есть, слова поэзии представляют не только существующее на этом свете.
С другой стороны, Хузангай отмечает, что слова Айги отталкиваются и от обыденной жизни. В действительности Айги говорил так:
«Отвечая на вопрос, скажу несколько слов о местах в моих стихотворениях, о местах-стихах. Эти места, несмотря на большую абстрагированность, имеют своих – весьма точных – географических «двойников». Одно из моих полей я назвал «бого-костром» (по образцу «бого-человека»). Вряд ли кому-нибудь это интересно, но я могу сказать, что это место находится в семи километрах от татарского села Шихирдан и в пяти километрах – от чувашского села Шигали... Упоминаю об этом, как бы обращаясь с благодарностью к этому существующему на земле месту…»28.
В другом месте он отметил, что поле как географическое явление является «вторичным двойником» по отношению к «идее», которая появляется прежде самого поля, наподобие идеи Платона. И независимо от них, поэтическое поле возникает в стихах как двойник «идеи-поля». Дальше он припоминал такой эпизод:
«В детстве на меня произвел сильное впечатление один случай. Однажды ночью, проснувшись за полночь, я увидел мать, которая, оклеветанная за несколько дней до этого в одном событии, произносила слова заклинания, в которых она клялась чистым полем»29.
Разумеется, кто-то может отметить противоречие у поэта. Ведь он сказал, что когда писал стихи, то не имел в виду какой-либо чувашский «архетип». С другой стороны, он отчетливо осознает двойственность «идеи» и «двойника». То есть, осознает другое пространство поля в поэзии, которое находится то ли в определенном географическом пункте, то ли в заклинании, произнесенном когда-то матерью.
Однако же мы должны обратить внимание на то, что здесь неважно, что первичнее: «идея» или ее «двойник». Как Айги сам говорил, и то, и другое соединяются в одно начало (в философском смысле) «Поле», что стало одной из главных тем его русскоязычной поэзии. «Поле» Айги не является изображением, которое проявится после наличия какого-нибудь прототипа, но скорее это является таким местом, где «здесь» совпадает с «нигде нет»30.
В связи с этим можно полагать, что стихотворение «Здесь» (1958) раннего периода творческой деятельности Айги адекватно выражает аморфное пространство, которое должно развиться потом в «Поле».
и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться ее иероглифом
мне слово «здесь»
и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу31
Через «здесь» происходит такое однократное действие, как одновременное выражение земли и неба, видимого и невидимого. Но в то же время в этом тексте, написанном поэтом, когда еще не была закреплена его метаграмматика писания стихов на русском языке, явно выражается сомнение в выразительной потенции языка. Далее следуют три фрагмента о чудесном возбуждении, обретенном «здесь». А потом как будто вдруг человек приходит в себя, высказывает сомнение и даже проявляет антипатию относительно того, как выразить словами то состояние.
здесь
на концах ветром сломанных веток
притихшего сада
не ищем мы сгустков уродливых сока
на скорбные фигуры похожих –
обнимающих распятого
в вечер несчастья32
«Уродливые сгустки сока», «похожие на скорбные фигуры» – это негативные слова. Однако это недоверие к словам, кажется, уже рассеивается в интервью начала 1970-х годов. Айги заявил о своем желании передать стихами «ощущение несколько иного пространства иной России – моего края»33. Здесь он считает свои стихотворения «словесными пространствами», создающими образы природы. Припоминая о том, что при смерти матери решился строить «тугие пространства» в стихах, Айги после переключения языкового кода рассматривает стихи как «пространство» с определенным качеством и параметрами. Правда, сначала он еще к этому не готов. Его текст «Здесь» заключается следующими стихами: «чтобы пространства людей заменялись / только пространствами жизни / во все времена»34. В данный момент, очевидно, еще нет свободы для «словесных пространств». Однако последние потом приобрели качественно иное воплощение, так что они захватывали тело стиха целиком. Иначе говоря, русские стихотворения Айги первоначально как бы отрицали творящую силу Слова, затем в них наоборот стало проявляться стремление к построению весьма своеобразного пространства слов.
Каким же образом произошло это превращение с аморфного дейксиса («Здесь») в формирующее название пространства («Поле»)? Правда, нельзя рассматривать этот переход вне связи с тем, что творческая энергия у Айги ускользнула с чувашского языка в русский. Однако тот языковой переход произошел далеко не так, как переключение электрического тока. Скорее, трение в данный момент имело большое значение. Вспоминая то время, когда он начал писать стихи на русском языке, Айги объяснял это следующим образом: «Для меня, человека нерусского – чуваша, – важно было ощутить русский язык, русское слово не как голошение, песню, что-то напевное, песенно-романсовое, а как что-то материальное, ворсистое, занозистое. Почувствовать особую фактуру его, фактуру, очень характерную для этого языка, для этого народа»35. По словам Айги, для него важно было не столько понимать, сколько «ощутить» русский язык. Не посредством правильно заученного письма по правилам грамматики и пунктуации, но путем «верченья» или «кореженья» русского синтаксиса он смог овладеть им особым образом.
Как нам уже очевидно, русский язык для Айги являлся не только средством передать смысл, но и веществом материальным, которое можно ощутить зрением, слухом и даже осязанием. С точки зрения поэта и так называемое «свободное стихотворение» (верлибр), которое выглядит бесформенным, должно быть пронизано насквозь единым ритмом. Этот ритм представляется ему зрительно как круто разворачивающиеся «спиралевидные макароны»36.
В эссе «Сон-и-Поэзия» (1975) Айги, говоря о сне, подчеркивал, что это не просто отдых для организма:
– благодарение Ему (сну. – М.Г.) за то, что прибой Его волн печет кое-что и для слуха, названного «поэтическим», – «как вафли, печет» – запоминаемые кровью – звуко-сгустки из тьмы, – располагая их – меж пустотами-паузами – как тени-вехи – небумажных пространств! – которые, однако, могут определить и «поэтические пространства».
По сравнению с предыдущим стихотворением «Здесь», в котором поэт решил не искать «уродливые сгустки», в «Сне-и-Поэзии» он выражает даже «благодарение» к «звуко-сгусткам», то есть слуховому имиджу слов. Теперь слова, проявившиеся из аморфной пустоты в затвердении с определенной формой, соединяют зрение и слух в «поэтическом пространстве».
Материальный имидж слов находится у Айги не только в общности различных чувств, таких как зрение и слух, но и в общности интереса поэта к различным видам искусства. Как широко известно, Айги работал в музее Маяковского в Москве с начала 60-х до начала 70-х годов, организовывал там выставки Малевича, Татлина, Гончаровой, Ларионова, Чекрыгина и других художников русского авангарда начала ХХ века. Так он близко соприкоснулся с авангардной живописью. Он заметил, что особенность русского авангарда не ограничивается персональным характером художника, как в европейском авангарде. Скорее, русский авангард четко отражает общее наследие России, исторически копившееся из поколения в поколение, чтобы соорудить и сотворить мастерски конкретные вещи. По его словам, авангарду поэзии было предназначено явить силу, чтобы «предвидеть» и «нащупывать» будущие изменения средств поэтики и, вырывая их из будущего, «конкретизировать»38.
С другой стороны, Айги интересовался чувашским фольклором. Он говорил в интервью, каким образом начал заниматься «Поклоном – Пению»: «Я так часто встречал какие-то поразительно странные образы, нелогичные, загадочно притягательные ассоциации – они, как жемчужные зерна, вдруг в какой-нибудь длинной песне просверкнут и исчезнут – и снова идет обычный текст, может, и хороший, да ничто в нем не заставит вздрогнуть и озариться восторгом. Я много думал: как бы эти жемчужины сохранить? В какой форме это сделать?..»39. Айги нашел ответ на этот вопрос в том, чтобы представить это «чудо жемчужины» на русском языке: «Как-то странно, как бы сами собой эти образы стали у меня воплощаться в четверостишия». В отношении к обоим — и авангарду, и фольклору, в центре стоит проблема умения формовать слова и выразить объект. То есть, такие якобы противоположные жанры как авангард и фольклор пересекаются на стремлении к конкретным формам выражения.
В то же время мы должны иметь в виду, что поэт не обязательно противопоставлял русский язык чувашскому, считая первый более подходящей формой выражения сути поэзии. Дело было не в выборе языка. В кратком представлении русского поэтического авангарда Айги упомянул о рассуждении о. Павла Флоренского. По его мнению, язык имеет два взаимно противоположных стремления: одно – «импрессионистическое», основанное на индивидуальной практике, а другое – «монументальное, общее, общественное». Посредством закала этой антиномии языка, сохраняя его двойственность, выходит «зрелое слово»40. Ссылаясь на Флоренского, Айги полагал, что напряженный синтез двух стремлений языка является идеалом поэтического авангарда.
Такая позиция Айги по отношению к двойственности языка как «импрессионистическому» стремлению на основе смутных впечатлений и опытов индивидуума и «монументальному» стремлению на основе общественной нормы, его понимание напряженного равновесия этой антиномии определяло суть творчества и его поэтическую практику. Он называл одну сторону практики «разведывательной», а другую — «итоговой»41. В «разведывательном» процессе творчества представляется имидж вещей через «бессловесный язык», и потом отыскиваются подходящие слова. А в «итоговом» процессе, с другой стороны, наблюдаемое явление само подсказывает определенные слова. Излагая эти двойственные процессы творчества, Айги признался, что раньше он сопротивлялся «итоговому» применению слов, но в последнее время начинает «говорить выводами» даже вопреки себе. Значит, он считал сосуществование двух сторон в своей деятельности необходимым. Итак, прежде всего требуется уловить такой редкий момент, когда представления и образы сплавятся и проявятся непосредственно «в слове»42.
Слова в единстве с представлением образа в стихах Айги, по словам Л. Березовчук43, составляют «другую реальность». Когда человек воспринимает некоторое явление, предполагается связь между собой и окружающим миром. Однако семиотическое пользование словами отсекает такую связь с окружающим. Тем не менее, именно этот семиотический процесс реализует стихотворение и делает его доступным для людей в данной культурной сфере. Так что необходимым становится синтез восприятия на основе представления с одной стороны с семиотическим действием в текстопорождении с другой. Только из синтеза двух действий состоится стихотворение в качестве «другой реальности».
Вернемся к стихотворению («Ат=ла – таймапуё=м») на чувашском языке. «Истинное слово», которое не должно разделяться, должно быть синтезом воспринятого представления с семиотическим действием. Представление Ат=л’а, совпадающее с отцовской речью и с материнским пением, соответствует реке Волге, имеющей определенные географические координаты. И в то же время, посредством семиотизации, оно создает «другую реальность», то есть поэтическое пространство.
Нам осталось все же ответить на вопрос: что значит не-представление Волги в русских произведениях Айги? Мы выше изучали, что образ Ат=ла-Волги появляется «в слове» чувашских стихов на основе синтеза двух стремлений языка. Мы начинали с того, что появление образа Волги почти не наблюдается в русских текстах. По каким причинам такое различие возникает в творчестве одного и того же поэта? Не есть ли это зависимость от используемых языков?
Обдумывая этот вопрос, нам следует вспомнить, что Айги неоднократно отмечал трагичность в связи с русской поэзией. Он говорил следующим образом: «Искусство для меня – область трагического. В то время, когда я становился как поэт, область трагического для меня находилась в сфере русского языка, – короче, на нем я мог высказываться «до предела», «до конца», «по существу»44. Мы уже видели, что русский язык для поэта не является лишь средством выражения или коммуникации. Нечего и говорить, что самоопределения «до предела» и «до конца» ставят его в совершенно особые отношения с реальностью.
В произведениях Айги наряду с природными образами «Поле», «Лес» в качестве инвариантов часто отмечают тишину, паузы и молчание как существенные характеристики его поэзии. Они для автора никак не обозначают пустоту или отсутствие звуков и слов. По Айги это «видоизмененное действие мысли и духа»45. По его убеждению, в стихах существует молчание, также как в обычном разговоре. Однако это молчание парадоксально в том, что оно может реализоваться только через слова. Иначе говоря, поэтическое Слово должно включать в себя тишину, предшествующую его появлению. И не только. Поэт даже выразил желание написать цельное стихотворение, которое было бы «тишиной». В эссе «Поэзия-как-молчание» в 53-м параграфе есть такая фраза:
И – спросят: даже об этом – словами?
Да, – и молчание, и тишину можно творить: лишь – Словом.
И возникает понятие: «Мастерство – Молчания»46.
Как отмечалось в вышеупомянутом чувашском стихотворении «Ат=ла – таймапуё=м», молчание и тишина пересекаются со сном в качестве ключевой темы творчества Айги. Признаваясь, что «часто писал на грани засыпания», он отмечал, что тогда возникает напряжение такие разных духовных сил, как память, мысль, воображение и восприятие. Во «Сне-и-Поэзии» он заметил, что сон обнаруживает «звуко-сгустки из тьмы, располагая их между пустотами-паузами как тени-вехи небумажных пространств». Мы в свою очередь можем сделать вывод, что молчание имеет такое же действие, как пустота-пауза в качестве тени-вехи, рельефно проявляющее звуко-сгустки, то есть слова. Наподобие тени, которая сама по себе ничего не показывает, но одновременно служит вехой, также и молчание, само по себе никак не звучащее, может реализоваться в одном тексте.
Отсюда мы можем предположить, что и не-представление, само по себе не будучи концептом, может реализоваться хотя бы в одном стихотворении. Когда Айги сказал, что он может (должен?!) высказываться «до предела», «до конца», «по существу» на русском языке, не говорил ли он об этом не-представлении?
Однако мы опять в ситуации парадокса. Если веха, освещая, показывает что-то, то это уже не тень. Если слова выражают молчание, то это уже не молчание. Итак, если словами высказывается не-представление, то там уже только представление, а уже нет не-представлений. Отсюда мы можем полагать, что высказываться «до предела», «до конца» обозначает, что у поэта есть желание решительно преодолеть барьер между бумажными словами и не-представлением. Айги считал, что это возможно на русском языке.
«Осуществляя воображаемое, поэт становится творцом. В то же время, впрочем, может стать и разрушителем»47 – такой комментарий показывает, что Айги был поэтом, осознающим двойственную природу Слова. Часто упоминаемые в его стихах «Поле» и «Лес» являются плодами сплава подобной двойственности в одном Слове. С другой стороны, родные для него имена собственные (например, топонимы) обычно скрываются в его стихах не-представленными, но иногда возникают мерцающими словами, как «Волга (Ат=л)» или «волга».
В стихотворении «Что забредает в сломанную флейту», с которого мы начали, читаем десятую строфу: «Терпеливо стать «конченым», – продолжать трудиться, приняв это «качество»48. Кажется, что как будто поэт этими словами оправдывает предыдущую строфу о Волге. Когда указываешь имя собственное давно знакомого и близкого тебе топоса (родной деревни, реки, города и т.д.), ты легко полагаешься на одностороннее действие слова. Поэтому для Айги не просто было вводить такие слова в свои русские тексты. Однократное употребление русского варианта гидронима «Волга», как нам кажется, оправдано его стремлением дойти именно «до предела».














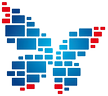


Комментировать