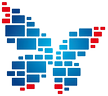Чăвашла верси
Чăвашла верси Русская версия
Русская версия
Микаэль Нюдаль. Предыстория одного перевода.
Микаэль Нюдаль родился в 1973 году в городе Мальмё на юге Швеции. Переводчик, критик, издатель. В его издательствах «Ариэль» (Швеция) и «Зеленый моль» (Норвегия) вышло несколько изданий Г. Айги. Перевел на шведский язык поэзию Геннадия Айги, Елены Гуро, Велимира Хлебникова, Ольги Седаковой, прозу Ольги Славниковой.
Восемьдесят лет назад родился Геннадий Айги. Почти пятнадцать лет назад мы с Геннадием Николаевичем познакомились (в Москве). Ровно десять лет назад я оказался впервые в Чебоксарах. А всего лишь четыре месяца назад впервые всерьез попытался, как переводчик, читать его стихи на чувашском языке. Последнее может показаться странным – почему же не раньше? Тем более учитывая уважение, которым пользуется поэзия Айги у нас, у скандинавских читателей поэзии и поэтов; учитывая, как тесно мы сотрудничали в последние годы его жизни (организуя как фестивали и переводческие проекты, так и издавая книги – в Швеции, Москве и Чувашии); учитывая ту силу, с какой творчество Айги и после его ухода продолжает соединять людей вокруг себя (как в художественном, так и в чисто человеческом плане).
Правду сказать, я к русскоязычной поэзии Айги не сразу подступил как переводчик. Причины были разные. Во-первых, у него уже были отличные переводчики на шведский (Анника Бэкстрем и Ханс Бьеркегрен), во-вторых, я долго просто не решался, не смел попробовать. Мой русский язык казался недостаточным, переводческий опыт слишком маленьким, собственная поэтическая интуиция слишком слабой. Вдобавок, то поэтическое творчество, иначе говоря, тот поэтический мир, который я смутно угадывал между редкими строчками каждого его отдельного стихотворения, казался слишком необъятным. За исключением нескольких коротких стихов, переведенных мной в чисто прагматических, так сказать, целях, безо всякого намерения опубликовать их, я взялся за перевод русского творчества Айги только после его смерти. Как же так сложилось? Отчасти – случайно. Но отчасти – как результат некой динамики (как правильно назвать ее? литературной? исторической?), которая сама собой «запускается» после смерти автора, когда творчество остается без него. Смерть автора – это событие, с которого начинаются сложные процессы как внутри, так и вне творчества. Эти процессы, часто длящиеся десятилетиями, если не больше, мы называем «канонизацией».
Айги умер в феврале 2006-го года. Пару лет спустя, где-то зимой 2007–08-го годов*, я вдруг осознал, что все мы, работавшие вместе с Айги, а теперь работающие уже без него, но вместе друг с другом, в Швеции и в Чувашии, стали, неожиданно для самих себя, не только свидетелями этих процессов, этой «канонизации». Сейчас как бы мы сами представляем эти процессы.
Чувашская поэзия Айги долго находилась для меня как будто в тени: я и осознавал, и не осознавал ее. Она была близка, но недоступна. Она как бы молчала.
Долгое время я «знал» то, что часто повторяется в предисловиях к книгам Айги и в статьях про него; то есть то, что наверняка знает каждый его читатель. А именно: что он был родом из маленькой чувашской деревни, писал стихи на чувашском, а потом оказался в Москве, где познакомился с Пастернаком, после чего перешел на русский язык и стал известным во всем мире поэтом. Чувашская же его поэзия в таком изложении отодвигается на задний план, и для всех, кто не имеет возможности читать ее в оригинале (а таковым является как европейский, так и русский читатель), она легко представляется менее полноценной: неким первым юношеским наброском к «настоящей», то есть русскоязычной поэзии.
Я пытался вспомнить, что же говорил сам Гена по поводу своих чувашских стихов, когда речь заходила о них (такое, кстати, случалось всего несколько раз). И мне вспомнились какие-то неопределенные фразы, суть которых всегда заключалась в одном и том же: что мне будет не совсем легко их понять, что главное сейчас не в них. Да и вообще у нас всегда было полно срочных дел. Позже – уже после смерти Гены – я стал спрашивать других, и теперь, может быть, уже мои вопросы были слишком неопределенными. Я не знал, о чем именно спрашивать. Как бы то ни было, суть ответов заключалась в том же: это не для меня, сейчас не время, здесь не место. А работы, кстати, у нас по-прежнему было полно.
Однако со временем история о том, как поэт «перестал быть чувашским и стал русским», сама стала терять убедительность. По двум причинам. Во-первых, потому что мы продолжали переводить, а эта работа рождала все новые и новые вопросы о его поэзии и расширяла наши представления о контексте творчества Айги, его предшественниках. Во-вторых, потому что мы продолжали приезжать в Чувашию, а там, знакомясь с деревней и людьми, постепенно начинали понимать, что Айги не «оставил» и никогда не «оставлял» их, всегда был с ними, до конца оставаясь одним из них. Знакомились мы и с теми самыми чувашскими его стихами: их читали наизусть на праздниках и поминках, их пели под синтезатор, их декламировали школьники в национальных одеждах, их вспоминали на кухнях и сидя за рулем.
Слушая эти стихи и вспоминая о молчании, которым они были окружены для нас, мы начинали задавать себе новые вопросы. Само это молчание стало привлекать к себе внимание. Почему оно возникло? Что за ним скрывается? И что нам с этим молчанием делать?
Я теперь уже не думаю, что оно связано только с тем, что я на чувашском не говорю, в чувашской деревне никогда не жил и чувашских классиков не читал, и поэтому так ничего бы и не понял. Я также не думаю (больше), что оно вызвано тем, что чувашская поэзия Айги слишком сильно отличается от его русской, и поэтому как бы противоречит ей. И не тем, что она, наоборот, слишком похожа на нее, и поэтому как бы только повторяет ее. Скорее я стал думать, что само это «молчание» заключает в себе какое-то глубокое знание о поэзии Айги. Мне уже кажется, будто оно намекает, указывает на что-то, одновременно и существенное, и ускользающее в ней. Что точно – трудно сказать. И поэтому перед нами стоит задача попытаться узнать, в чем же заключается это существенное. Задача тонкая, деликатная. Поэтому лучше бережно с ней обращаться. Порой лучше отвечать неопределенно. Порой лучше не спрашивать. Порой надо ждать. А порой необходимо решить, что всё, дождались.
Весной 2013-го года мы пригласили Еву Лисину (сестру Айги, писательницу и переводчицу) в Стокгольм, чтобы она выступила в рамках так называемого свободного семинара по литературной критике. Семинар работает уже более десяти лет, здесь встречаются поэты, критики, лингвисты, философы, филологи из всей Скандинавии. Каждая сессия посвящена определенной теме, а минувшей весной мы неоднократно возвращались к вопросам перевода. Перевода как мастерства, как традиции и обновления, как вида критики и знания. Еву пригласили как переводчицу Библии, и два дня мы занимались как переводческими и библейскими темами, так и более специфическими и неизвестными для скандинавских участников свойствами современной чувашской культуры, духовности и письменности. В этом контексте нам открылась и уникальная возможность приблизиться (впервые в Швеции, а, возможно, и впервые в Европе) к чувашскому Айги не через доселе обязательную историю о том, как он в Москве стал русским поэтом под влиянием Пастернака. Для этого случая Ева сделала русский подстрочник ранней поэмы «Завязь». Ее мы выбрали отчасти потому, что она занимает столь видное место в истории того, какую роль сыграл в судьбе Айги Пастернак, отчасти и потому, что сам Айги считал ее решающей для себя («Я весь вышел из двух поэм – ‹Завязь› и «Начало»). На основе этого подстрочника мы сделали шведскую версию поэмы, которую вместе с Евой Николаевной представили участникам семинара*.
Прошло почти десять лет с тех пор, как я увиделся с Евой Николаевной в первый раз. За эти годы мы встречались неоднократно, но кажется мне, будто встреча в Стокгольме – разговоры и совместная работа в рамках семинара – впервые открыла нам возможность задаться вопросом «Кто такой чувашский Айги для европейского читателя?» и возможность вместе обратиться к этому «молчанию». Не с тем, чтобы его нарушить, а с тем, чтобы прислушиваться к нему. В Стокгольме мы поняли, как приступить к этой работе.
Итак, в октябре 2013-го года я на несколько недель приехал в Чувашию. Цель моего пребывания в Чебоксарах заключалась в том, чтобы вместе с Евой Николаевной перевести подборку стихов с чувашского на шведский – и как можно «прямее». По утрам Ева приезжала ко мне с подстрочниками, сделанными накануне. Мы варили кофе и начинали работать. Ева читала вслух, а я слушал, записывал, следуя, как мог, за оригинальным текстом, вслушиваясь, пытаясь улавливать в них тона, эхо, сгущения, интонации… А потом мы «проходили» стихи, слово за словом, строчку за строчкой. Часто бывало, что самые простые слова требовали длинных изложений: то о детстве в Синьяле, то об употреблении поэтом деревенских слов, не вошедших в словари, то о московском быте шестидесятых, то о чувашской классике, о метрике в стихах и вообще. Мы варили еще кофе. Я записывал, запоминал, перебивал, слушал. Через несколько часов мы заканчивали, решив, над какими текстами работать на следующий день. А наутро все начиналось заново. Кофе, чтения, разговоры. Мы прогуливались по городу. Ходили на юбилеи, концерты. Съездили в Синьял. Все было частью того вопроса, который я наконец смог сформулировать: кто такой чувашский Айги? И все было частью ответа. Наконец, я услышал (впервые) более подробное рассуждение о чувашских стихах Айги. Услышал от сестры, ближайшего друга поэта:
«Когда Гену называли русским поэтом, он тут же поправлял: «Я – не русский поэт, а чувашский, который пишет на чувашском и русском языках». Это было важное замечание, но на это не обращалось внимания: «русский поэт» – и все. Если говорить только о чувашских стихах, то Айги – классик, один из великих чувашских поэтов. Классиком он стал после выхода первой же книги. Это было в 1958 году. А первое русское стихотворение – «Смерть» – он написал только в 1960 году, когда мы с ним в деревне ухаживали за смертельно больной матерью. Мне кажется, эта трагическая ситуация – страдание и приближение смерти – подтолкнула его к другому языку, будто страшные слова легче было писать на нем. Так началось осуществление совета Пастернака переходить на русский язык. Айги никогда не переставал писать на чувашском языке. С трудом, но в Чувашии книги его издавались, и они расходились мгновенно. Айги обогатил чувашскую поэзию. Обнаженность чувств, искренность, доверчивость, богатейший язык делают чувашского читателя как бы собеседником, соучастником; сердечность и красота поэзии Айги покоряют, его поэзия воспринимается как живая сила. Самый неискушенный в поэзии крестьянин никогда не забудет, как осенний огород с увядшей картофельной ботвой Айги сравнил со следами какой-то Трои. Может быть, крестьянин и не слыхал про Трою, но знает точно: поэт так любит его огород, что сравнивает его с частью мирозданья. Поэт любит каждую тропинку, каждый куст крапивы родной земли, и когда он – признанный во всем мире, путешествующий по знаменитым городам – говорит:
Если бы тогда
Я знал нынешнюю тоску,
Эту деревню
Больше любить
Мне надо было*, –
эти строки читают со слезами.
Айги познакомил чувашских читателей с мировой поэзией, поражая богатством и красотой чувашского языка. Он перевел и издал три антологии – французской, венгерской и польской поэзии. Когда я читаю эти переводы, всегда возникает одна и та же мысль: интересно, оригиналы звучат так же прекрасно, как на чувашском?
Конечно, мы знаем и чувашские, и русские стихи Гены. Конечно, чуваши любят его русскую поэзию, гордятся своим соотечественником, но многие говорят: «Все-таки для меня чувашские стихи дороже». Мы знаем Айги в с е г о. Поэтому, когда говорят только про одну часть его творчества, мы так и говорим: «Они же Айги не знают!»
Очень интересно: я для пробы перевела русские стихи Айги (буквально несколько) на чувашский. Оказывается, это для меня легче, чем переводить его чувашские стихи на русский».
Таким образом мы прошли стихов сорок–пятьдесят и те поэмы, которые Айги называл очень важными для своего творчества. Самые ранние стихи написаны в 1950-х, самые поздние в 2006-м году – они же на самом деле последние, написанные перед смертью. Этот материал мне кажется достаточно большим, чтобы отдать должное чувашскому Айги. Он даст скандинавскому читателю возможность открыть чувашского Айги. Конечно, нам осталось всего лишь обработать весь этот сырой материал. «Всего лишь».
Вообще говоря, мы с Евой рано, чуть ли не с первого шага, решили отложить в сторону сложную задачу сопоставления чувашской и русской поэзии Айги. Такое решение было принято, чтобы мы могли работать как можно более близко к самим текстам, не отвлекаясь, так сказать; на внетекстовые проблемы. Ими займемся позже. Правда, часто бывало во время работы, что мы замечали сходство с русскими стихами (вот тут, мол, повторяется тема такая, здесь мотив такой, а там прием такой), но намного чаще мы обходили подобные моменты молчанием. А когда я теперь снова, три месяца спустя, приступаю к работе над материалом, могу сделать такое предварительное замечание. Решение мне кажется правильным не только потому, что оно в самом деле дало нам свободу работать, но еще и потому, что чувашская поэзия Айги, как и русская, представляет собой некое целостное творчество. Этим я хочу сказать, что она, например, не является всего лишь первым наброском к его русскому творчеству; а также что она интересна не только в качестве некоего «ключа» к русскому. Разумеется, имеет смысл, даже необходимо рассматривать его чувашскую и русскую поэзии как части одного целого; но они остаются автономными, хоть и частями. Например, как братья и сестры: родные, но разные.
Чувашский Айги кажется нам одновременно и «знакомым», и «другим». Еще несколько предварительных наблюдений. Он кажется менее абстрактным и менее требовательным в языковом плане (что касается неологизмов, употребления знаков препинания и т.п.). Такое впечатление, как будто и язык, и читатель ему ближе. Как будто нет нужды со-творять слова – они как бы уже существуют, где-то там: между ним и читателем. Их как будто только что произнесли, они еще теплы от дыхания. Стихотворные формы почти без исключения проще, более традиционные: опять-таки кажется, будто это связано с тем, что они принадлежат не «ему», а «всем», будто и они только что были в ходу. Часто встречаются и метрический ритм, и рифмы – все то, что, как мы привыкли думать, не относится к Айги. Но и здесь видно, как поэт выходит за рамки традиции, как он борется с формами (поэтому ранние чувашские стихи дают ценное представление о его становлении как поэта). И даже здесь, как ни ровна метрика, как ни просты рифмы, всегда слышится его говор, его интонация. Стихи опираются не на метрические структуры, а на устную фразировку. (То же самое – интонации, устность, дыхание – ведь это так важно и в его русской поэзии, как ни отличается она на первый взгляд от чувашской.) Стихи приобретают жизнь и легитимность не в качестве «артефактов», а лишь по мере того, насколько они способны содержать в себе и передавать через себя человеческое присутствие. Поэтому так важны посвящения и обращения: необходимо, чтобы стихи были обращены к кому-либо, будь то к матери, другу, поэту, Шуберту… А тот, кто говорит, лирическое «Я» – эп.: мне представляется более… плотным, что ли, размером с человека; но его основные черты те же самые, какие знал и раньше. Его борьба – одна и та же. Он настаивает на тех же ценностях – в этике, поэтике, истории. А то, что он все это делает на таком языке, который отличается от русского некой компактностью, сжатостью, что ли, ну, это меня только радует – учитывая, что шведский язык как раз такой же: компактный, выразительный.
То, что чувашские стихи Айги скоро будут доступны и европейским читателям, обязательно изменит образ поэта. Конечно, есть риск, что его будут неверно понимать как великого «авангардистского» русского (читай: международного) поэта с традиционными чувашскими (читай: провинциальными) корнями. Риск усиливается тем, что такое неправильное истолкование опирается на сильные антонимы (традиционный – авангардистский, провинциальный – международный и т.д.), и к тому же известный рассказ о встрече с Пастернаком отлично это истолкование дополняет. И я думаю, что в этом риске таится одна из причин того, что те, кто близко знает оба его творчества, так неохотно о них говорили, когда я спрашивал. Вполне возможно, что здесь таится причина того, что и сам Гена так неопределенно отвечал на мои вопросы.
Но такое упрощенное и штампованное восприятие преуменьшает как русского, так и чувашского поэта. На самом же деле поэт Айги на редкость осознанно обращается с проблемой «традиции» и «новаторства» в поэзии. Во время работы над его русскими стихами нам становилось все яснее, что его поэзия – помимо всего остального – и является своего рода тончайшим инструментом, посредством которого он сразу и исследует, и активно меняет ту традицию, тот канон, ту поэтическую сферу, в которую она вписывается. И я предполагаю – хотя мое знание чувашского языка и современной чувашской поэзии, конечно, слишком поверхностно, – что то же самое можно сказать о его чувашской поэзии. И я уверен, что в этом заключается основная причина того, что они отличаются друг от друга. Когда Айги вступает в чувашскую поэзию, он имеет дело с иным опытом (как историческим, так и поэтическим), чем когда вступает в русскую. Они заговаривают с ним по-разному и о разных вещах, и требуют от него разных ответов. Ни в том, ни в другом случае он не имеет ни возможности, ни прав, ни желания отстраняться от среды, в которую попал. Он должен принимать ее во внимание. Тут сказывается, на самом деле, тот простой «экологический» принцип, согласно которому все взаимосвязано с окружающей средой. Колючки ежа говорят не о еже, а о голоде лисы.
Кноппарп,
3 февраля 2014 г.