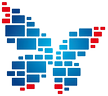Чăвашла верси
Чăвашла верси Русская версия
Русская версия
Мария Митина. О разбитом пространстве и выходах в космос: две премьеры чувашской сцены
«Натурализм в некоторых театрах необычайный! Даже запах портянок доносится со сцены», – восхищался Виктор Гюго, размышляя на тему одного из старейших видов искусства. Кто-то возмущенно передернет плечом. Дескать, запах портянок, березовая роща на заднике, струйки дыма из картонной трубы сегодня не актуальны. Современный театр формируется в русле иных тенденций. Действительно, чего только нет на больших и малых, уличных и подвальных, стационарных и разовых сценических площадках. Здесь брызги постмодернизма и отблески символизма, колдовство сюрреализма и эпатаж перформанса, рельефы документальности и виражи антирежиссуры, смакование классики и торжество «новой драмы»... Многообразие, буйство красок и абсолютное постановочное раздолье. Раньше об этом можно было только мечтать. Однако направление натурализма имело столь сильное влияние на развитие мирового театра, что его симптомы аукаются до сих пор. Скрупулезная и громогласная правдивость, когда вместо интригующей игры в шарады вам предлагают скучное чтение ровных жизненных абзацев... Зато не страшна встреча лицом к лицу, ведь вы предвидите поворот за поворотом. А как же переносные смыслы, метафоры и аллегории?
«Натурализм разрушал театр. Он засорял его обывательским психологизмом и мещанским сластолюбием вещи. Он стремился умертвить театр, но в результате единоборства погиб сам. В наши дни натурализм делает отчаянную попытку воскреснуть из мертвых. Он снова ищет возможность установить на сцене гегемонию мертвой вещи. Старый натурализм включал жизнь в театр. И поэтому он был все же театрален. Новый натурализм включает театр в жизнь. Поэтому он антитеатрален», – писал в начале XX века великий режиссер и новатор своей эпохи Александр Таиров. Чем не позиция? Его слова по сей день звучат свежо и актуально. Ведь действительность тошнотворна в своей непроходимой очевидности. А стоит взглянуть на нее сквозь призму воображения, как вешалки вдруг превращаются в виселицы. Восхитительная метаморфоза, не правда ли? Нужно лишь найти подходящий ракурс и немного прищуриться.
Но если постоянно щуриться, начинают болеть глаза. И тогда хочется с разбегу окунуться в бушующий омут эмоций, прикоснуться к достоверному изображению бытия и человеческой сущности и с жадностью вкусить распахнутый настежь мир. Национальный театр... Тот самый, поднявшийся из пучины родной земли и теплый, как материнские руки, девственно-самобытный и пропахший свежим сеном, парным молоком и ржаным хлебом. Явление яркое. Можно бесконечно осуждать его за излишнюю импульсивность и «рубаху-душу», за утрированную подачу материала и нарочитый максимализм. Или сейчас речь идет об особенностях языка и неподражаемом драматургическом диалекте?
Две премьеры нынешнего театрального сезона заставили вновь задуматься о специфике национальных спектаклей. Это «Мунча кун\» (День очищения) в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К. Иванова и «Ч\р\ с=мах» (Творящее слово) на малой сцене Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля. Работы получились настолько контрастными по жанру, стилю, замыслу и средствам художественного воплощения, что сопоставлять их пришло в голову не сразу. Драма Арсения Тарасова разрастается диким лесом обнаженных характеров и отношений. «Творящее слово» расцветает музыкально-поэтическим ревю, претендующим на всепоглощающую духовность и природную, почти есенинскую чистоту.
Словно огонек в деревенской печи, горит тихая меланхолия. Так стройная чувашская девушка идет за водой, смиренно склонив голову и накинув на плечи гибкое коромысло. Так звенят ее монисты и шелестит лента, вплетенная в длинную косу. В спектаклях этого много, пусть и не буквально. Главное – ощущение. Впрочем, в «Творящем слове» образ чувашки возникает визуально. В нем и забота матери, вскормившей сына и теперь провожающей его в огромный мир, и взволнованность девушки, ждущей возлюбленного у раскрытого окна, и мятежность родины, прикрывающей солдата мягкой ладонью. Нужно только закрыть глаза на грубые стилистические промахи наподобие модельных туфель на шпильке или букета искусственных роз.
Мизансцены первой картины продуманы мастерски. Облаченные в строгую, безликую черноту, герои будто оторваны от земли. Они парят вне времени и вне пространства, вместе с тем находясь в конкретном времени и пространстве. Раз, два, три! Пара маленьких, на первый взгляд незначительных штрихов, и нужное состояние достигнуто. Революционно-красные косынки, пионерские галстуки, затертые фуфайки, старая, проеденная молью шинель... Как точны эти намеки на ситуацию, когда молчание – золото, разговоры – шепотом и на уровне «едва-едва».
Увы, заслуженный деятель искусств Чувашии и маститый режиссер Иосиф Дмитриев вместе с художником Ольгой Ежковой быстро возвращают нас из созерцательных поэтических миров в досадную реальность. Например, откровенно чужеродными элементами врываются документальные кадры кинохроники, архивные фотографии и пейзажи, разрушающие микроклимат спектакля и «зарубающие на корню» малейшие поползновения фантазии. Хрупкое трехмерное пространство вмиг разбивается о плоскость пресловутой бытовой зарисовки. Но разве стихи не подразумевают возвышенную обобщенность и воздушное кружево импровизации? Свободно, не стесняясь своих причуд и с головой погружаясь в ассоциативные ряды...
Мечта припечатана и уже не дышит. На заднике развертывается радужный чебоксарский залив с памятником Родине-матери, как жирный финальный аккорд, не допускающий «но» и «возможно». И это вместо задумчивого многоточия и застенчивой недосказанности. Оправдывает ли режиссер поэта? Осуждает? Считает его выжившим из ума лириком, практически юродивым, или мудрецом? Наконец, жалеет ли он поэта? Индивидуальная режиссерская позиция тоже скрывается за непроницаемым полотном видеопроекции. Или позиции нет? Вопросов накопилось много. А ведь в произведениях Михаила Сеспеля, Петра Хузангая, Василия Митты и Геннадия Айги заложен гигантский потенциал. Дерзновенный, мятежный поэт в исполнении молодого и успевшего ярко заявить о себе Сергея Никитина не может не пленять и не вдохновлять на самые смелые постановочные решения. Взглянуть на классику по-новому, построить нечто большее, нежели парад чтецов...
В «Дне очищения» подобных просчетов нет. И хотя народный артист СССР, непревзойденный Валерий Яковлев якобы выдерживает повествование в духе традиционной народной драмы... Не случайно Кетерук, героиня народной артистки России и Чувашии Нины Яковлевой, исчезает за багровой чертой вечернего горизонта. К слову, пьесы Арсения Тарасова всегда пленяют первозданной, пронизывающей красотой, от которой все холодеет внутри. Драматурга по праву можно назвать Александром Вампиловым чувашского края, и режиссер понимает это. Его постановочная речь полна экстравагантных оборотов и авторских афоризмов. Подобно широкому узорчатому полотенцу развертывается на сцене красочное действо. На легкий ковер кристального, необузданного естества обжигающим воском капают космические символы. Наступает момент, когда национальное выскальзывает за пределы собственных границ и вливается в общечеловеческое. Будто река впадает в море.
Особой смысловой нагрузкой наделен образ Мисаила. Бессвязные звуки, пантомима и пластика – вот средства, используемые молодым и талантливым актером Евгением Урдюковым. Движения героя угловаты и уродливы, зрачки поблескивают пугающими огоньками, насквозь прожигающими сценическое пространство, губы вздрагивают, замирая в безумной улыбке. Он не произносит ни слова, лишь изредка неразборчиво бормоча, словно в бреду, или тревожно попискивая что-то тоненьким голоском. Мисаил практически не покидает сцену, как лейтмотив, как алое пятно, как ангел-хранитель с незримыми крыльями. Быть может, в нем, неказистом и всеведущем, притаилась сама судьба?
В спектакле нет промежуточных персонажей, каждый из них активно воздействует на внутреннюю органику. Например, Соня в исполнении заслуженной артистки Чувашии Елизаветы Хрисанфовой оказывается жертвенным агнцем, медленно и мучительно гибнущим во имя любви. Героиню можно сравнить с подстреленной птицей, стремительно падающей вниз и пытающейся взмахнуть раненым крылом. Даже во внешнем облике Сони есть что-то от орлицы: неуловимая надломленность линии чуть приподнятых рук, склоненная набок голова и сосредоточенный, не моргающий взгляд. Иногда мы чувствуем, как ее тело напрягается от затылка до самых пят, корпус подается вперед, плечи гордо расправляются, и в этот момент кажется, что птица готова к полету. Она вот-вот взмоет ввысь, оставив позади осточертевшую реальность.
Пронзителен и незабываем Георгий народного артиста Чувашии Вячеслава Александрова. На протяжении спектакля он только и делает, что тягает ведра с водой. Есть в этой монотонности какой-то тошнотворный водоворот бесконечности. Мы понимаем, что герой попал под смертоносное колесо фатума. Подобных «зияющих ран» много. Спектакль замешан на таинстве, трагизме и слезах. И даже сценическое оформление невероятно хорошо и трогательно в своей откровенности. На сцене торжествует ослепительный свет, струящийся по густой траве, призрачному заднику и зеленым массивам, усыпанным тельцами скворечников. Валерий Яковлев виртуозен в своем умении мыслить «наполовину», когда картины обыденности вдруг загораются изнутри неземным светом. Бесспорно, это дорогого стоит.