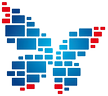Роберт КОПОСОВ «Алран кайми» – Неразлучные с нами
В 1972 году я начал работать на Казанской студии кинохроники в качестве главного редактора, и в первую же осень поехал знакомиться с Чувашией – одной из республик «зоны обслуживания». Студия снимала документальные фильмы и киножурналы в Марийской, Мордовской, Чувашской и Татарской республиках.
Бесчисленными пригорками распахивала Чувашия нам навстречу перелески и поля, деревни и села; любопытные березки выбегали к дороге, солидно тянулись к небу по натянутым веревкам строгие квадриги хмеля... Умиротворение, ласковость были разлиты в синем сентябрьском воздухе. Бывают, видимо, такие места на земле, где человек сразу чувствует себя, как дома. У каждого, конечно, свои. Высокий берег Волги, раздольные просторы, милая красота родной природы настраивали меня на лирический и возвышенный лад.
Нравились и люди. Улыбчивые, скуластые, с хитрованским прищуром глаз. С ними было легко. Но очень скоро я узнал, что есть в чувашском языке понятие «аптраманл=х» (может, неправильно я воспроизвожу само слово, но понятно будет). Это что-то вроде уступчивой твердости: встречают тебя ласково, уступают во всем, гостеприимны чрезвычайно – до тех пор, пока ты не посягнешь на какие-то святые вещи, верность которым составляет саму сущность этого народа. Тут чуваш становится сердит, упрям, и лучше этих моментов не касаться. Так ведь и каждый народ хочет, чтобы в самом святом его не обижали! Я не навязывал им своих взглядов и убеждений, мне интереснее было узнавать, и узнал я даже в самый первый приезд, такой кратковременный, довольно много.
В картинной галерее Чебоксар в эти дни открылась выставка картин художника Анатолия Миттова. Первая и – посмертная. По-чувашски его звали Толя Митта, с ударением на последнем слоге. Картины поразили меня тематикой (это, прежде всего, мир древних чуваш), непривычностью композиции, а особенно – колоритом, в котором преобладали всевозможные оттенки желтого и зеленого цветов.
Эти цвета и у меня были самыми любимыми, не потому ли так сразу откликнулась во мне какая-то струна, породив нежный и печальный звук?
Милая женщина-искусствовед Карачарскова* (грешен, не запомнил имя-отчество!), узнав, что мне хочется узнать о Миттове побольше, посоветовала познакомиться с его вдовой. Олимпиада Васильевна Таллерова приняла нас с радостью. Целью ее жизни уже стало служение творческому наследию мужа. Мы пили чай в ее тесной двухкомнатной квартирке, заставленной неимоверным количеством работ Анатолия, и немели от восторга. По крайней мере, для меня было ясно, что это встреча с настоящим Художником, с настоящим искусством. Олимпиаде Васильевне было радостно встретить интерес к творчеству мужа. По ее предложению, на следующий день мы поехали на родину Миттова, в деревню Тобурданово...
...С шоссе уже видно околицу деревни, недлинная дорога подходит к воротам – они всегда широко открыты, а забора нет и в помине... По-моему, это тоже символично: вход – он есть, он всегда открыт – для добрых людей. Дальше дорога превращается в улицу, идущую вдоль довольно широкого ручья, над которым нависли вековые ветлы, шатрами укрывающие и ручей, и улицу, и некоторые дома... Избы все ухоженные, нарядные, чистые. В горнице нас принимают родители Толи, милые старики, самый что ни на есть настоящий народ, самые настоящие чуваши. Пьем чай, разговариваем, потом мама Анатолия ведет меня на чердак, и я просматриваю то, что можно назвать архивом художника...
У меня перехватывает в горле: такого воловьего трудолюбия я еще не видел. Да, десятка два эскизов к картине для любого художника – норма, но тут их – бесчисленное множество. Даже учебные работы выполнены по нескольку раз, все-то он добивался точности передачи, изучал игру света и тени... Описать это невозможно!
Впрочем, я попытался это сделать, когда вернулся в Казань. В любимом моем «Комсомольце Татарии» опубликовал статью «Железный Миттов», в которой, в частности, писал: «У разных народов школу живописи творили целые поколения. Миттов взвалил на себя исполнение этой задачи почти один. Он работал в стиле древнерусской живописи и персидской миниатюры, есть у него подражание классическим образцам и японским мастерам. Он прошел многие направления и школы, и, в конечном счете, выработал свой стиль, нашел свою тему, выразил мироощущение своего народа. Именно он был в числе первых, кто положил начало чувашской живописи, а не бездарные эпигоны, рисовавшие, «как все».
Как водится, самобытного и неординарного художника коллеги фактически затравили. От нервного срыва Анатолий почти потерял слух. Что-то в его внешности, судьбе, даже в страстности колорита живописных работ напоминало Ван-Гога... Но только напоминало. Он был самобытен. Он был – Чувашский Художник.
Узнал я в ту поездку и о судьбе Константина Иванова – одного из первых чувашских поэтов и просветителей. В двадцать пять лет он скончался от туберкулеза... А теперь во всяком чувашском доме на видном месте стоят его книги, по ним учат свой язык школьники, именем его героини – Нарспи – называют чуваши дочерей...
Словом, влюбился я в Чувашию. Восхищенный ею, сопереживающий этому маленькому, но самобытному народу, вернулся в Казань.
А там меня ждал Павел Сиркес.
Павел был москвичом. Этим многое сказано. Москва на всех нас смотрела тогда свысока: провинция. Ничего бы не было обидного в слове «провинция», если бы не обозначало оно в глазах «столичных штучек» заведомую отсталость, замшелость, инерцию. Но вот подрабатывать на периферийных студиях московские авторы любили. Павел был профессиональный кинодраматург, и с ним еще моим предшественником на посту главного редактора киностудии был заключен договор на написание сценария фильма о Константине Иванове. Если бы я прочитал этот сценарий до поездки в Чувашию, никаких вопросов бы не возникло. Все основные факты из жизни поэта-просветителя «отображены», сценарий выстроен по всем незыблемым законам документально-биографической драматургии. Бери – и ставь фильм.
Но я был в Чувашии. Дышал ее воздухом, разговаривал со многими людьми, видел картины Миттова, прочитал «Нарспи» и другие книги, и я не мог принять такой сценарий. Не было в нем именно этого: воздуха, живых людей, живой красоты, живого творчества. А отказать Павлу не было никаких оснований.
Долго мы с ним говорили, продолжили в ресторане, я разве только не умолял его, объясняя, что к чему, чего я хочу. Денежный вопрос мы решили: студия оплатит 50% договорной суммы как за принятый сценарий, а Павел забудет о том, что имеет право написать дикторский текст и получить еще 50%... Но он понял, мне кажется, что имеет дело с ненормальным редактором, который сам не знает, чего хочет, и при написании текста много нервов может попортить... Так что расстались мы почти друзьями. Павел напоследок еще раз спросил:
– А ты уверен, что найдешь такого сценариста, какой тебе нужен?
Тут он угодил в болевую точку. Страх не найти, не справиться уже сидел в моей заячьей душонке... Я его гнал, давил, искоренял, но он все время норовил высунуть свою зыркающую черным глазом острую мордочку в самых неожиданных местах...
– Найду, наверное...
Накатил очередной вал текущей работы: киножурналы, заказные фильмы, выполнение квартального плана... Я созванивался с новыми друзьями в Чувашии, они мне называли разные имена – чувашских журналистов, писателей... Предложил свои услуги известный в республике журналист. Он в Чебоксарах слыл за корифея документального кино, написал несколько сценариев. Но когда я прочитал их, прочитал работы других авторов, мне стало совсем сиротливо и неуютно. Ивановым, Миттовым тут и не пахло. Потому что в их-то творчестве главным было самозабвенное служение другим, народу своему, а не себе, как у этих, современных...
Время шло, сроки подпирали, фильм давно пора было запускать в производство. Но не было не только сценария, не было и режиссера.
Операторы у нас были классные. Мне, конечно, хотелось, чтобы жили мы с ними дружной творческой семьей, но в кино (театре, эстраде и т. п.) так не бывает. А вот режиссеры…
– Режиссеры нам нужны новые! – заявил мне Наиль Валитов, который уже успел неплохо зарекомендовать себя на студии. Недавний выпускник ВГИКа, он получал, пожалуй, самые интересные темы, был занят и на фильм об Иванове не претендовал.
Америку открыл! Кино делают режиссеры, а хорошее кино делают хорошие режиссеры. Козе понятно. Только где их брать? На студии работало несколько режиссеров – хорошие, нормальные люди. Только вот «нормальный человек» – это ведь для режиссера, и вообще для творческого человека совсем не комплимент.
– Во ВГИКе выпуск скоро, там есть парень один. Толя Сырых...
Слушать про ВГИК было, конечно, приятно. Звучало название этого института музыкой. Олимп! Недостижимый храм искусства! А тут – езжай да выбирай. Потом привези в Казань, обеспечь квартиру, работу, защищай от недобрых взглядов (кто же чужаков любит), к тому же может оказаться темной лошадкой, котом в мешке... Нет уж, пусть Харис Фахрутдинов фильм про Иванова делает.
Харис как раз повез в Госкино очередной фильм сдавать. Что-то там не заладилось, позвонил: приезжай, мол, на подмогу.
Когда я появился на восьмом этаже здания в Китайском проезде, прямо у лифта меня встретили два удивительно забавных своей внешней похожестью человека. Один-то – Харис, а второго я видел впервые. Оба невысокого росточка. Оба темноволосые, скуластые, глаза хитрованские, улыбаются. Прямо близнецы, если бы не было сразу видно, что один – татарин, а другой – чуваш.
– Знакомься, Роберт Иванович, я автора нашел! – заторопился Харис. – Геннадий Николаевич. Поэт из Чувашии.
Познакомились, разговорились. Геннадий Николаевич Айги мне сразу понравился. Из Чебоксар его выжили завистливые коллеги, и он теперь жил в Москве, писал стихи, переводил с французского на чувашский. Узнав от Хариса, что будет сниматься фильм об Иванове, Геннадий Николаевич спросил, нельзя ли написать сценарий... Он всегда был удивительно скромным, тихим человеком. Чуть попозже, принимая нас у себя дома, он нас огорошил, спросив, как заваривают... быстрорастворимый кофе. Весь он в этом – беспомощный в быту, живущий целиком в искусстве... Из-за этого и с семьей у него никак не складывалось. Какая женщина выдержит этот режим жизни, нищенские и очень редкие гонорары, постоянную круговерть друзей и знакомых в квартире? Много позже он станет признанным лидером чувашской поэзии, приобретет широчайшую известность за границей. А тогда…
– А что значит «Айги»? – спросил я, чтобы потянуть время. Как-то ведь надо начинать разговор.
– Лиса... По-русски моя фамилия была бы Лисин.
Тут еще одна фигура возникла в поле зрения. Тощий долговязый молодой человек с вытянутым, как на фресках Эль Греко, лицом. Внешне робкий, стеснительный, он вдруг заговорил вежливо, но вполне напористо.
– Вы Роберт Иванович, из Казани? Я Толя Сырых, Наиль Валитов вам говорил обо мне...
Я закивал энергично.
– Вот мы с Геннадием Николаевичем поговорим, и...
– А можно мне присутствовать при разговоре? – настойчивость была и странной, и в то же время понятной. Почему бы и нет? Я опять кивнул, мы все отошли на просторную лестничную площадку, только Харис укатился куда-то организовывать просмотр – картину-то ему сдавать надо.
– Как бы вы написали сценарий о Константине Иванове? – осторожно спросил я Айги.
– Я бы написал... Как это сказать? Неправильный сценарий. – Мы с Толей переглянулись. – Я бы начал с конца... Как поэта везли на подводе в родное село, умирать. Он в двадцать пять лет умер от туберкулеза, вы знаете.
Я кивнул.
– Последние слова его были: «Неужели все было напрасно?». Это ведь так понятно: он преподавал, создавал чувашскую азбуку, переводил на чувашский русских поэтов... Даже «Интернационал» перевел, – тут Айги остро взглянул на меня. Все же в его глазах я был в тот момент функционером, чиновником.
Я молчал, ему пришлось продолжить:
– Фильм будет разворачивать его жизнь от конца к началу. И в самом финале мы узнаем, когда он родился, и уже будем понимать, что рождается великий человек, рождается для борьбы, для мук...
Он опять замолчал, разговаривать да убеждать он был не мастер. Но меня и не надо было убеждать. Его идея сразу захватила меня. Фильм может стать необычным, он может стать – соответствующим, что ли, образу Константина Иванова. Так что мы поняли друг друга.
Толя Сырых потом признавался, что когда пришел знакомиться со мной, то еще не решил, стоит ли ехать в Казань. Родом-то он был из Новосибирска, тамошняя студия была уверена, что он к ним и вернется, хотя никакого направления ему не давали и, соответственно, никаких обязательств он перед ними не имел. Но знакомство с Айги, идея фильма ему очень понравились – и понравилось, что я одобрил ее сразу, с ходу. Тогда, во время нашего разговора с Айги, у него мелькнула мысль: хорошо бы эту картину дали делать ему... Вслух-то он, конечно, этого не сказал.
Мы с Толей съездили во ВГИК. Совсем он оказался не храмом, а заурядным зданием, построенным в те годы, когда в советской архитектуре безраздельно господствовала мода на колонны.
Учебные работы Анатолия мне понравились. Было в них и детское стремление сделать все не так, как у всех, и ученическое умничанье – куда же без этого! Но было, несомненно, живое чувство, было умение думать...
Из Москвы в тот раз я увез договор на сценарий, подписанный Айги, и согласие Толи распределиться в Казань.
…Толя Сырых уже работал на студии. Мы с Наилем сумели его пристроить в заводское общежитие, где они и жили с красавицей-женой Ниной. У них уже рос Данилка, и Толя сразу подметил: «У тебя Нина и Данилка, и у меня Нина и Данилка. Верю, что не случайно». Он был прав. Родство наших душ обнаружилось и во множестве других проявлений.
Толя сразу попросил, чтобы сценарий Геннадия Николаевича Айги дали ставить ему. Я задумался. Во-первых, обещано Харису... Во-вторых, сценария пока нет. В-третьих. Толя-то, конечно, парень симпатичный, но еще сырых совсем...
– Сделай пока пару журналов, – сказал я, – а там и сценарий подойдет, посмотрим...
…Толя сделал журнал, от которого у всех на сердце стало тепло. Очень необычный, какой-то человечный, душевный. Не было в нем привычной трескотни («выполняя решения...», «откликаясь на...») и прочего пустословия. Даже о производственных делах рассказывалось по-человечески, просто – и вместе с тем как-то интеллигентно. В хорошем смысле слова.
И еще журнал. И еще.
Один из сюжетов нас всех сразил. Толя взял популярную тогда песню Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» и проиллюстрировал ее кадрами, которые нашел буквально в корзине, среди остатков других журналов, других сюжетов. Там были и чудные капли воды на листьях, и светлые, добрые лица, и – неожиданным, но таким понятным диссонансом – пьяные на улицах, жертвы ДТП, дебильные дети... «Ты проснешься – и минуты остановлены как будто, как росинки их бери... Как прекрасен этот мир, посмотри... Как прекрасен этот мир!..»
Разве можно пересказать чудо искусства?
Так что когда пришел сценарий Айги под названием «Алран кайми» (Неразлучные с нами), и я прочитал его, то понял: делать этот фильм должен Сырых. Толя быстро нашел общий язык с Ависом Привиным – классным кинооператором. Тот тоже загорелся сценарием. Директором съемочной группы на этот фильм я назначил Эльмиру Ризванову – тоже недавнюю выпускницу ВГИКа... Для фильма все это было очень хорошо.
…Группа Сырых вернулась из Чувашии. Еще через несколько дней Эля Ризванова привезла из Свердловска проявленный материал фильма «Алран кайми» (обработки цветной пленки в Казани тогда еще не было). Все поспешили в нижний зал – смотреть. Что-то было вокруг этого фильма такое, что сгущало атмосферу ожидания. Мы, понятно, ждали удачи, успеха... Но многие ждали другого. В творческих коллективах ревность – далеко не последнее чувство.
Толя и Алик возбужденно рассказывали, как их встречали в деревнях. Люди узнавали, что снимается фильм про Иванова, и спешили помочь, чем только могли, раскрывали заветные сундуки, вынимали удивительные костюмы, головные уборы и платья – расшитые, украшенные множеством монет, без всякой расписки доверяли это богатство Эле... На съемках царила атмосфера дружбы, всеобщей любви и радости... Фильм не мог, просто уже не имел права получиться плохим, скучным, стандартным!
Материал оказался просто великолепным!
Черно-белые фотографии почти столетней давности: портреты Иванова, он же в симбирской школе, замечательные просветители Яковлев и Ульянов (Илья Николаевич, конечно), здания тех лет, экспонаты из музея – в том числе деревянная пишущая машинка, которую Константин сделал своими руками... Вслед за этими кадрами на экране возникают во всем полноцветии чувашская свадьба; дети на качелях; чудесные одухотворенные лица; девочка в красном платье, бегущая по свежескошенному полю... Это же современная Нарспи! – догадываюсь я о замысле авторов. Как жаль, что нет с нами рядом Геннадия Николаевича, как бы он порадовался, что оживают задуманные им эпизоды, рождается фильм... А на экране снова черно-белые кадры: женщина рожает ребенка, снято только лицо, одухотворенное предчувствием и муками материнства, слеза бежит по крутой чувашской щеке, глаза с укором взглядывают в камеру – в зал! на зрителя! – это снято так деликатно, так завораживающе прекрасно, что ощущаешь в душе целую гамму чувств: восхищение, радость от того, что вот еще один человек приходит в жизнь, сострадание матери, в муках рожающей сына... Снова всполохи красок – это перенесенные на пленку картины Миттова – жизнь чувашской деревни: хороводы, свадьбы, похороны, труд, родная природа, воспроизведенная влюбленной рукой...
– Толя, я хочу поскорее увидеть этот фильм! – выражаю я чувство, охватившее всех, кто в этот момент присутствует в зале. Мы все понимаем, чувствуем, что рождается Фильм...
Он действительно получился очень нестандартным. Фильм начинается съемками чувашской свадьбы, древним обрядом поминания: «Прежде чем начать нам свадьбу, по обычаю чуваш, мы родителей помянем – долг земной исполним наш...» Льется из резного ковша пиво на пылающие алым светом головни в костре, вот дерево Киреметь – древо жертвоприношений древним богам, оно все увешано подношениями: ленты, детали одежды, продукты...
В этот момент мы переживаем действительно религиозное чувство – лучше сказать, ощущаем и разделяем его, эту наивную и глубокую веру в высшую справедливость, в прекрасную – пусть и загробную! – жизнь... Язычество ли, православие ли – мы сейчас об этом не задумываемся, мы просто чувствуем безграничное доверие чувашей к тем, кто видит их жизнь, их приношения, их воплощенную память откуда-то из неизмеримо прекрасного далека, и кто с доброй улыбкой осеняет их благословением... Не тогда ли начался мой путь к Богу?
Нет, раньше. Когда, совсем мальчишкой, скрючившись под одеялом, я пытался унять зубную боль, и повторял: «Боже, милый! Сделай так, чтобы она прошла, чтобы не болел!» И когда в колхозе, на картошке, осенью, обращался в пасмурное небо с мольбой, чтобы у любимой девушки все было хорошо, обращался – к Нему, и искренне верил, что будет услышана моя мольба, что дойдет... И множество других раз, когда я вверял свои маленькие боли, проблемы, страсти, надежды, упования, мечты – Ему, кого я в тот момент еще не знал, боялся поверить в Его существование, да и о самих своих маленьких просьбах ни за что бы никогда никому не признался – время было такое...
А какое, собственно? Мы как-то шли с Эдиком Скворцовым мимо обкома партии, гордо возвысившегося на площади Свободы на месте бывшего завода пишущих устройств, и уж не помню, по какому поводу я говорил ему:
– Почему бы не объединить пропаганду морального кодекса строителя коммунизма с религией, с церковью? Ведь там собраны заповеди, без которых нельзя: не убий, возлюби ближнего... Ведь взятое вместе, это было бы такой силой для объединения людей, для воспитания нравственности?
Эдуард – он умный, думать умеет, он еще тогда объяснил мне, что делиться идеологией, а значит, и властью, никто никогда не захочет, что церковь-то не знает компромиссов с совестью, а наша идеология... Мы тут умолкали: кто их знает, моих друзей из компетентных органов, может, уже научились подслушивать и на расстоянии?
...А в фильме Толи Сырых ни о каких компромиссах речи и быть не могло. Константин Иванов посвятил свою жизнь другим людям. Своему народу, как бы банально это сегодня ни звучало. Константин писал стихи, переводил на чувашский русскую литературу – и «Интернационал» перевел. А было это в 1910-м году: «Вставай, подымайся, чувашский народ! Вставай на борьбу, люд голодный!» Он преподавал, он участвовал в создании и развитии языка своего народа, он жил и дышал одной мечтой – увидеть чуваш равными в семье самых просвещенных народов.
Он умер в двадцать пять лет. От чахотки. Последними словами его были: «Неужели все было напрасно?» Фильм ненавязчиво, но очень убедительно свидетельствовал: нет, не напрасно. Жизнь поэта и просветителя разворачивалась перед нашими глазами от конца к началу, а современные вставки (дети в школе, дети играют, девушка бежит по траве, жизнь чувашской деревни) ставили его отданную без остатка другим людям жизнь в контекст Времени, мы видели ее из сегодняшнего (и прекрасного, с его, Иванова, точки зрения) дня...
Тут необходимо примечание к примечанию. Все познается в сравнении, это ясно. Так вот нам, документалистам, довелось видеть жизнь чувашской деревни в кадрах хроники – дореволюционных и первых лет революции. Они потрясают. Особенно кадр, в котором снята цепочка слепых – они идут, держась за плечо впереди идущего. Они ослепли от трахомы – это был бич чувашских деревень. Можно сослаться и на Константина Иванова. Часто цитируют его знаменитые строки: «Эй, родные, поднимайтесь, посмотрите по углам. Надо плуг наладить к пашне, починить телегу нам. Время выехать и в поле – ну-ка, братец, запрягай! Дай здоровья, Боже добрый, и богатый урожай!». Эти строки цитируют как своего рода гимн труду, но забывают упомянуть, что обращены-то они были к мужикам, которые после вчерашней пьянки и драки валялись в разных углах сельского двора. Пьянство тоже было страшной бедой чувашского крестьянина... Народ вымирал. Как ни кляни советскую власть, а именно она принесла в этот край новый уровень жизни. Другое дело, что она тоже закостенела потом в диктаторских путах, но это было потом... Мы еще встретимся с этим другим «потом»...
...Когда в конце фильма возле сельского дома блеснула молния, раздался удар грома, а затем мы видели, как прекрасная женщина рожает сына – в каждом вспыхивала мысль: она рожает его на эти муки, на этот подвижнический труд, на непонимание и такую раннюю смерть... Молния освещает обелиск, на котором написано, что здесь похоронен поэт Константин Иванов, создатель чувашского литературного языка... Торжественно, чуть грозно звучит старинная чувашская песня «Алран кайми»: «Ты всегда будешь неразлучен с нами, как с нашими руками неразлучны плуг и соха...»
Зажегся свет в зале...
Мы сидели, ошеломленные. Такого фильма на нашей студии еще не было.
– Так что? – немножко лукаво спросил Сырых. Смотрел он исподлобья, выжидательно – но эльгрекины его глаза лучились улыбкой скрытого торжества: он понимал цену своей работе. Привин же напрягся, напружинился, готовый вступить в бой, защищать картину...
Только что же тут было защищать. Я просто не знал, что сказать.
– Хороший фильм, – вздохнул я. И вдруг повеселел: овации, восторги, приз какого-нибудь фестиваля уже запрыгали у меня в глазах. Жизнь-то, оказывается, вполне клевая штука! Поймал себя на этом словечке – «клевая» – и засмеялся: – Будем показывать Анатолию Николаевичу.
Привин, конечно же, обрадовался, оживился, начал быстро говорить про то, что в фильме хорошо, спрашивать, нравится ли, как снят, как смонтирован тот или иной эпизод... Хотелось ему сказать, что это не тот случай, что говорить ничего не надо. Но был он так трогательно счастлив, так горд, что возражать не хотелось. Звукооператор, монтажницы, просто столпившиеся у выхода технари улыбались... Сырых тоже что-то говорил, но пытался подпустить скепсису, суеверен был.
Работа над монтажом и текстом прошла на удивление гладко. Выяснилось, что сценарий был так крепко «сколочен», что необходимость в разного рода доделках и правках была минимальной. И Геннадий Николаевич был настроен очень, как сейчас говорят, конструктивно, и там, где вступали в силу законы кино, чаще всего соглашался. Но если ему казалось, что поправки затрагивают что-то существенно важное – был тверд, как кремень. Это (насколько я могу судить) вообще одна из характерных черт народа Чувашии: уступчивая твердость. А он был Чуваш в самым высоком смысле слова – сын своего народа. Он и сегодня, и всегда будет в ряду тех, именами которых гордятся: Ивана Яковлева, Константина Иванова, Анатолия Миттова и многих других. Это цвет народа, эти люди выражают суть народного характера.
…А дальше началась проза тогдашней жизни. Директор студии остудил наш пыл, отказавшись подписать акт о завершении работы – опыт подсказал ему, что с этой картиной будут неприятности. На наше счастье, он уходил на пенсию, а новый директор, молодой еще человек, решил рискнуть. Потом в Чувашском обкоме партии картину, мягко говоря, не приняли. Госкино РСФСР, у которого горел план, тоже по-своему оценило фильм, устами своего председателя назвав его «фигней». При этом, принимая фильм, Госкино не могло не поиздеваться над картиной. По их требованию пришлось убрать кадр – лицо рожающей женщины («неэтично показывать женщину во время родов»), что-то еще...
В окончательном варианте тираж фильма был определен в 25 копий. Это было ничтожно мало для 168 прокатных регионов СССР. Обычно-то тираж составлял, как минимум, 336 копий. А рекордные тиражи (про генсеков и других секов) превышали цифру даже 1680...
Мы все очень переживали, и только мудрый Геннадий Николаевич помалкивал. Он-то, прошедший не одну выволочку своих коллег по писательскому цеху, понимал, что вся эта пена схлынет, а фильм все-таки останется.
Сырых во время всех этих треволнений тоже только улыбался загадочно. Потом я узнал, что он «зажал» – заныкал, спрятал, по сути, похитил первую копию фильма – ту, которую мы и показывали в обкоме и в Госкино. С помощью Геннадия Николаевича Айги она оказалась в Париже, в синематеке, и ее нередко смотрели там, прежде всего студенты-киношники... Наше же Госкино ни на какой фестиваль (тем более международный) этот фильм не пустило.
Роберт КОПОСОВ